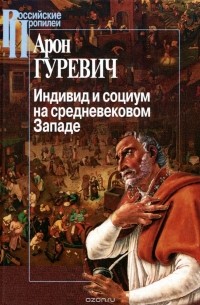Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Индивид и социум на средневековом Западе
Индивид Средневековья и современный историк
Проблема индивида – животрепещущая проблема современного исторического знания, ориентированного антропологически, т. е. на человека во всех его проявлениях, как исторически конкретное и меняющееся в ходе истории общественное существо. Историки много и плодотворно изучали общество в экономическом, социальном и политическом планах. Но человек, «атом» общественного целого, все еще остается малоизвестным, он как бы поглощен структурами. Накоплен обширный материал относительно отдельных обнаружений человека в его поступках, бытовом поведении, мы знаем высказывания и идеи многих людей прошлого. Историки ментальностей вскрывают самые разные аспекты образа мира, которым руководствовались люди в том или ином обществе, и тем самым гипотетически реконструируют то поле значений, в котором могла двигаться их мысль. Но ментальность выражает преимущественно коллективную психологию, внеличную сторону индивидуального сознания, то общее, что разделяется членами больших и малых социальных групп, между тем как неповторимая констелляция, в какую складываются элементы картины мира в сознании данного, конкретного индивида, от нашего взора, как правило, ускользает.
«Отловить» индивида в прошлом оказывается в высшей степени трудной задачей. Даже в тех случаях, когда перед нами выдающаяся личность – монарх, законодатель, мыслитель, поэт или писатель, видный служитель церкви, – в текстах, исследуемых медиевистом, характеристика этого лица облечена обычно в риторические формулы и клише, подчас без особых изменений переходящие из одного текста в другой. Эта приверженность стереотипу препятствует выявлению индивидуальности. Дело в том, что средневековые авторы стремились не столько к воссозданию неповторимого облика своего героя, сколько к тому, чтобы подвести его под некий тип, канон; индивидуальное, частное отступает перед обобщенным и традиционно принятым. Основной массив средневековых текстов написан на латыни, и авторы интересующей нас эпохи широко черпали фразеологические обороты и устоявшиеся словесные формулы из памятников классической древности, Библии, патристики и агиографии, без колебаний применяя привычные риторические фигуры для описания своих современников. Поэтому прорваться сквозь унаследованные от прошлого «общие места», топосы к индивидуальному и оригинальному в изображении личности чрезвычайно затруднительно, если вообще возможно. Исторический источник сплошь и рядом оказывается непроницаемым.
Это не означает, что индивидуальность в ту эпоху отсутствовала, – она не привлекала к себе пристального внимания и не находила адекватного выражения в текстах, которыми располагают историки. Более того, в Средние века она нередко внушала подозрения.
Однако путь к средневековому индивиду загроможден и другого рода препятствиями. Эти последние порождены уже не риторикой, столь характерной для средневековой словесности, но определенными установками современных историков.
Одна из презумпций, которыми явно или неявно руководствуются исследователи, состоит в том, что человеческая индивидуальность представляет собой итог длительного развития, собственно, его венец. Пишут о «рождении индивида», о его «открытии» или становлении в сравнительно недавний период европейской истории. Предполагается, следовательно, что до XVI, XIV или, в лучшем случае, до XII столетия (в зависимости от принятой тем или иным историком концепции) неправомерно говорить о личности и тем более об индивидуальности. Приводят ставшую крылатой формулу Жюля Мишле, повторенную Якобом Буркхардтом, об «открытии мира и человека» в эпоху Ренессанса в Италии. Что касается предшествовавшего времени, то, согласно этой точке зрения, можно говорить лишь об определенных социально-психологических типах, таких, как монах, священник, рыцарь, горожанин или крестьянин: сословная, профессиональная группа якобы поглощала индивида. Человека далеких от нас эпох изображают в качестве родового или группового существа, которое способно идентифицировать себя только в недрах коллектива. Если в эти удаленные эпохи и могли появиться отдельные индивидуальности, то историки склонны расценивать их исключительно как провозвестников грядущего процесса индивидуализации.
Нетрудно видеть, что в основе подобных рассуждений лежит идея эволюционного прогресса, неуклонного восхождения человека от более простых, чтобы не сказать примитивных, форм к индивидуалисту Нового времени. История трактуется телеологически, она ориентирована на современное состояние общества и интерпретируется как его постепенная подготовка. Но если подобная методология могла найти свое оправдание в XVIII и отчасти в XIX веке, то ныне идея поступательного прогресса едва ли приемлема. После двух разрушительных мировых войн, после ГУЛАГа, Освенцима и Хиросимы, после возникновения тоталитарных режимов на Востоке и Западе наш взгляд на ход истории не мог не измениться самым радикальным образом. Разве история не преподала нам уроки смирения? Идея прогресса, сохраняя свою истинность применительно к отдельным и специфическим формам деятельности, таким, например, как наука и техника, не внушает более доверия, когда ее по-прежнему пытаются применить к истории в целом.
Опыт XX века подводит нас к иной концепции истории. Культуры и цивилизации не выстроены во времени по единому ранжиру, ибо каждая из них самоценна и являет исторически конкретное состояние индивида и общества. О каждой культуре надлежит судить, исходя из внутренне свойственных ей условий и «параметров».
По моему убеждению, идея постепенного формирования автономной личности в период Новой истории в качестве уникального и беспрецедентного процесса, с которым впервые столкнулось человечество, есть не что иное, как порождение гиперболизированного самосознания интеллектуалов, свысока взирающих на своих отдаленных предшественников. Это своего рода снобизм, облаченный в исторические одеяния. Историки или философы, придерживающиеся подобной концепции, проецируют в прошлое свое собственное Я и превращают историю в зеркало, которое отражает их собственные черты. Человеческой личности с иной структурой они не знают и не признают.
Несомненно, существуют веские основания для локализации современного индивидуализма в истории последних столетий. Но нет никаких оправданий для того, чтобы видеть в новоевропейской личности единственно возможную ипостась человеческой индивидуальности и полагать, будто в предшествовавшие эпохи и в других культурных формациях индивид представлял собой не более чем стадное существо, без остатка растворенное в группе или сословии. Приверженцы теории о рождении личности в период Ренессанса допускают, казалось бы, незначительную неточность: они забывают подчеркнуть, что речь идет не о личности вообще, но о новоевропейской личности. Но если поставить проблему иначе и допустить, что в другие периоды истории личность характеризовалась иными признаками, то речь будет идти не о том, существовала ли она вообще, а об ее историческом своеобразии, обусловленном культурой и структурой общества.
Когда говорят, например, о первобытном человеке как о «родовом существе», всецело поглощенном племенем, родом или кланом, то исходят из допущения, что он начисто лишен индивидуальности. На самом же деле индивид вряд ли остается особью в обезличенном стаде. Этнологами давно выдвинута мысль о том, что в то время как одни соплеменники ограничиваются усилиями выжить, добывая пищу и строя жилища, другие дают волю своей фантазии, сочиняя или воспроизводя песни, легенды, генеалогии, силясь объяснить себе и окружающим происхождение и прошлое человека и мира. Разумеется, мифы и фольклор суть плоды коллективного творчества, но прежде чем стать общим достоянием, эти продукты человеческой фантазии и пристальных наблюдений были внедрены в общественное сознание теми или иными индивидами, анонимность которых ни в коей мере не исключает факта их реального существования и творческой активности. В самом примитивном обществе всегда налицо вожаки и шаманы, фантазеры и практики, лица, которых воображение коллектива (равно как и их собственное воображение) наделяет сверхъестественными, магическими способностями, люди, отличающиеся инициативой либо лишенные ее, лица, склонные к нарушению нормы, равно как и те, кто покорно следует жизненной рутине.
Один из центральных персонажей древних мифологий – «культурный герой», который передает коллективу знания и навыки, жизненно важные для существования общества. Иными словами, миф вырабатывает образ индивида, который в наивысшей степени воплощает опыт и ценности общества. И точно так же воспеваемые древним эпосом герои суть индивиды, в одиночку свершающие великие подвиги. Как видим, фантазия архаического общества не только не отрицает роли личного деяния, но, напротив, всячески его превозносит (подробнее см. об этом экскурс «Индивид в архаическом коллективе»).
Но оставим в стороне столь далекие эпохи первобытной истории. Можно предполагать, что более благоприятные условия для конституирования личности сложились на стадии «осевого времени», когда возникали новые формы религиозного миросозерцания – религии, обожествлявшие индивидуальное человеческое существо. То был, несомненно, мощный прорыв к личности, к пониманию ее значимости в структуре мироздания.
В дальнейшей истории рода человеческого обнаруживаются противоположные тенденции в подходе к личности: согласно одной, инициатива и индивидуальность совместимы с жизненными нормами, не встречают противодействия и пользуются одобрением, тогда как другая установка не поощряет индивидуальных проявлений. Вновь подчеркну: у историков нет оснований выстраивать непрерывный эволюционный ряд – картину поступательного развития личности. Задача несравнимо более сложна, она заключается в том, чтобы вскрыть условия и возможности для формирования и обнаружения личности, какие существуют в той или иной социальной и культурной общности.
Человек всегда и неизменно – общественное существо, и принадлежность его к социуму означает его погруженность в присущую этому социуму культуру. Историческая антропология, предполагающая рассмотрение общества сквозь призму культуры, снимает привычную для историографии метафизическую противоположность культурного и социального. Человеческий индивид, неизбежно включаясь в общество, тем самым приобщается к культуре, пронизывающей всю толщу социальных отношений. Этот процесс социализации, освоения индивидом языка и общественных ценностей, верований и способов поведения есть вместе с тем и процесс становления личности.
Существуют своеобразные социально-психологические и культурные механизмы, цель которых состоит в том, чтобы направить формирование личности в определенное русло, отвечающее потребностям данного общества и группы. Среди них – наделение именем, серия ритуалов, при посредстве которых индивид включается в коллектив, таких, например, как инициации, – процедур, предназначенных для усвоения им навыков и взглядов, присущих его половозрастному классу.
В средневековом обществе своеобразной разновидностью такого рода ритуалов были обряды посвящения в рыцари, испытания ремесленных подмастерьев, которые служили условием их вступления в цех в качестве полноправных мастеров, или рукоположения в духовный сан. Но помимо и сверх такого рода действий, имевших силу для определенных разрядов общества, существовали ритуалы трансформации индивида в личность, обязательные для всех христиан. Таково крещение, которое превращало homo naturalis в homo christianus.
В результате крещения и с помощью других таинств индивид входит в лоно церкви, но отнюдь не растворяется в пастве, ибо его общение с Христом имеет сугубо личный характер; каждый верующий, выполняя Божьи заповеди, свободен в выборе собственного пути, ведущего к истине, т. е. к Богу. Как мы увидим далее, те средневековые авторы, которые оставили свои исповеди и «автобиографии», переживали этот путь к Богу сугубо индивидуально, в одних случаях мистически, в других – несравненно более рационально и даже отвлеченно.
Признаюсь, я не очень озабочен тем, чтобы четко и непротиворечиво обособить понятия «личность» и «индивидуальность». Индивидуация есть неотъемлемая сторона социализации индивида. Человек способен обособиться только в недрах социума. Вопреки довольно распространенному суждению, он никогда не остается наедине с собой, и строящиеся вокруг этого «единственного» робинзонады исторически недоказуемы. Человеческое Я представляет собою личность и обретает индивидуальность лишь постольку, поскольку существуют другие Я, с которыми индивид находится в постоянном и многостороннем общении. Культура, в антропологическом ее понимании, никогда не является только уникальным достоянием отдельного изолированного индивида, это язык интенсивного и непрекращающегося общения членов социума. Языки культурного общения многоразличны и изменчивы. И лишь при посредстве их анализа историк может приблизиться к пониманию структуры того типа личности, который доминирует (или кажется доминирующим) в данном общественном универсуме.
Видимо, можно сказать, что проблема индивида в истории двояка. С одной стороны, она заключается в исследовании вопроса о становлении человеческого Я, личности, которая формируется в недрах коллектива, но вместе с тем осознает свою обособленность и суверенность по отношению к нему и углубляется в самое себя. С другой стороны, попытки историков исследовать пути самоопределения личности и присущего ей типа самосознания, характерного для данного общества, представляют собой, по сути дела, поиск истоков неповторимости самой культуры, ее исторической индивидуальности, ибо структура личности теснейшим образом соотнесена со всеми сторонами культуры той социальной общности, к которой принадлежит эта личность.
Итак, вопрос о человеческой личности и индивидуальности на определенном этапе исторического процесса – это не вопрос о том, существовала ли она или нет. Вопрос заключается в другом: какие стороны человеческого Я приобретали в том или другом социально-культурном контексте особое значение.
Однако при этом мне кажется не лишним предостеречь против однотонной стилизации. Разумеется, удобнее и проще воображать, что в данном обществе и в данную эпоху налицо один, преобладающий, «базисный» тип личности. И хотя вовсе отрицать его наличие было бы опрометчиво, существенно выявить многообразие индивидуальностей, образующих социальное целое.
Этот «разброс» обусловлен как социальной структурой и глубиной усвоения культурных ценностей, так и врожденными особенностями отдельных индивидов.
Утверждения и построения историка всегда по необходимости гипотетичны. В противоположность наукам о природе, опирающимся на эксперимент и вырабатывающим более или менее непротиворечивые понятия и обобщения, науки о человеке оперируют куда более неопределенными и нечетко очерченными понятиями. В разных контекстах им придаются неодинаковые смысл и значение. Они отягощены общими представлениями применяющих их историков и едва ли могут быть отделены от философских и иных оценочных суждений. Поэтому всегда налицо опасность того, что одно и то же понятие разными исследователями насыщается неодинаковым содержанием, и спор о существе дела подменяется спором о словах.
И как раз этой опасности, кажется, не вполне удается избежать при обсуждении вопроса об истории человеческой личности. Последняя возникает лишь в эпоху Возрождения, утверждают одни ученые. Она появляется несколькими веками ранее, в обстановке «Ренессанса XII века», – возражают другие. Но едва ли правомерно рассуждать о человеке на любой стадии его истории, если не предполагать существования той или иной личностной структуры, – такова точка зрения, которая начинает утверждаться в цехе гуманитариев в настоящее время. Ее преимущество, на мой взгляд, состоит в том, что она побуждает историков активно изучать формы сознания и поведения людей в разные эпохи. Позиция ученых, которые продолжают настаивать на том, что до XV, XVI или даже XVII столетий о человеческой личности говорить преждевременно, неплодотворна. Ибо, отрицая возможность искать личность в более ранние периоды, они тем самым закрывают проблему, которую, собственно, еще только предстоит исследовать.
Научная дисциплина история – это спор без конца, это непрекращающееся выдвижение новых точек зрения и гипотез. Разделяемая мною гипотеза, согласно которой сущность человека предполагает существование личностного начала, ядра, вокруг которого формируется все его виденье мира, представляется мне достаточно «безумной», чтобы подвергнуться исследовательской проверке. О мере убедительности рассматриваемого в книге под этим углом зрения конкретного материала пусть судит читатель.
Для ориентации в проблеме личности и индивидуальности в Средние века придется рассмотреть историографию вопроса. Существует немало научных трудов, посвященных исследованию этой проблемы. Здесь надо остановиться лишь на немногих, преимущественно на тех, в которых в более или менее концентрированном виде выражены присущие этой историографии принципы и методы.
Краеугольный камень в разработке проблемы личности был заложен в начале XX столетия в капитальном труде Георга Миша «История автобиографии». Немецкий ученый мобилизовал обширнейший материал, относящийся к Античности, Средневековью и началу Нового времени. Его труд основан на анализе не одних только источников западного происхождения, но также византийских и мусульманских. Детальное изучение целого ряда сочинений, которые в большей или меньшей степени могут быть интерпретированы как относящиеся к жанру автобиографии, сделало исследование Миша неоценимым кладезем сведений и наблюдений, каковой и до сих пор не утратил своего научного значения.
Но глобальная постановка вопроса Мишем привела исследователей более позднего времени к необходимости рассмотрения ряда специальных проблем, относящихся к личности в Средние века. Изучение автобиографии и изучение личности, при всей их несомненной близости и переплетенности, все же не вполне совпадают. Намеченный Мишем предмет исследования одновременно и шире, и у́же проблематики личности. На протяжении длительного времени труд Миша, однако, оставался по сути дела основным, если не единственным опытом в указанном направлении.
В середине 60-х годов значимость проблемы индивида была с большой настойчивостью подчеркнута Уолтером Уллмэном в книге «Индивид и общество в Средние века». Он с удивлением отмечал игнорирование этой проблемы современной историографией. Тема «Индивид и общество», по его мнению, не является только социологической – она должна обрести историческое измерение.
В лекциях, прочитанных в США и объединенных в его книге, Уллмэн подробно останавливается на контрасте двух способов интерпретации отношения личности и власти в Средние века. В соответствии с учением апостола Павла власть, источником которой является Бог, нисходит от Него к правителям, и именно поэтому все подданные обязаны беспрекословно им повиноваться. Противодействие власти есть грех перед Творцом. Эта точка зрения находила обоснование, в частности, в органологической теории функционирования социального целого, согласно которой разные сословия образуют единое «тело». Между тем реальные отношения в средневековом обществе строились, считает Уллмэн, на существенно ином принципе, а именно на принципе взаимодействия и договора между индивидами. Вассал ищет покровительства сеньора, последний также рассчитывает на поддержку и службу вассала. Их отношения скрепляет договор. В свою очередь, горожане и крестьяне образуют общины, союзы и корпорации, в которых превалируют горизонтальные связи, т. е. связи между равными.
Таким образом, считает Уллмэн, феодальная цивилизация стала колыбелью новой системы отношений между индивидами и обществом. Вопреки распространенному мнению, отрицающему свободу в Средние века, Уллмэн показывает, как в недрах феодальной цивилизации укрепляется понятие «гражданин», постепенно превращающееся в противовес понятию «подданный». Он сочувственно цитирует Сиднея Пейнтера: «Феодальная система вскормила индивидуальную свободу». Не ограничиваясь изучением паулинистской эзотерической доктрины нисхождения власти от Бога, историк, по мнению Уллмэна, должен был бы, «приложив ухо к земле», изучать жизнь низших слоев общества. Ведь именно их социальная и правовая практика в сочетании с принципом феодализма создала ту почву, на которой впоследствии выросло самосознание индивида как полноправного члена социума. Напротив, недоразвитость феодальной цивилизации в ряде стран Европы явилась источником политической нестабильности и кровавых революций, потрясавших Францию, Германию и Россию в Новое время. Между тем как англосаксонский мир, с наибольшей полнотой воплотивший принципы феодальной системы, избежал такого рода катаклизмов.
Оставляя в стороне явные политические пристрастия Уллмэна, не упустим из виду его основную мысль: социальная структура средневекового общества не только не исключала самоутверждения индивида, но и создавала для этого благоприятные условия. Не менее существенно то, что Уллмэн считает невозможным ограничиваться рассмотрением одних лишь господствующих доктрин и призывает к пристальному анализу реального функционирования социума.
Вскоре после выхода книги Уллмэна появилась монография Колина Морриса «Открытие индивида. 1050–1200». В отличие от многих авторов, которые, вслед за Якобом Буркхардтом, склонны считать эпоху Возрождения в Италии, а точнее XV век, временем формирования индивидуальности, Моррис сосредоточивает внимание на более раннем периоде. Не внезапный переворот, якобы совершившийся незадолго до 1500 года, но постепенный подъем и развитие, начиная со второй половины XI – середины XII века, – такова, по Моррису, история «открытия индивидуальности» на Западе. Им собран большой материал, характеризующий перемены в самосознании личности, которые произошли в то время в среде европейских интеллектуалов. Истоки процесса становления личностного сознания автор усматривает в поздней Античности; это классическое наследие пережило встречу с христианством и было усвоено средневековой мыслью в преобразованных христианством формах.
Идея интеллектуального обновления и подъема Запада в XII веке («Ренессанс XII века») была выдвинута задолго до Морриса Чарльзом Г. Хэскинсом, и в научной литературе уже обсуждались многие аспекты индивидуализма в духовной, правовой и политической жизни: развитие от «подданного к гражданину» (В. Уллмэн), авторская индивидуальность (П. Дронке, Р. Хэнинг), личностная природа религиозности мыслителей и церковных писателей XII и XIII столетий, их углубленный психологизм и «гуманизм» (Р. В. Саузерн). Однако Моррис, пожалуй, с большей настойчивостью, нежели другие исследователи, подчеркивает, что важнейшим плодом «Ренессанса XII века» было возникновение индивида с новыми психологическими ориентациями, с более углубленным взглядом на природу человека.
Значительные социальные, религиозные и интеллектуальные перемены, какими ознаменовался этот культурный подъем, выразились в том, что стали придавать большее значение личностным установкам как в отношениях с Богом, так и в отношениях между людьми. Исповедь – средство анализа внутреннего мира индивида, мистицизм, опыты в области автобиографии, попытки перейти от иконы к портрету, переосмысление образа Христа (его «очеловеченье»), любовная лирика и рыцарский роман, зарождение психологической интроспекции – таковы, по Моррису, вехи на пути к самоуглублению, которое сделалось в этот период возможным для многих духовных лиц, а в отдельных случаях и для образованных мирян.
Моррис полагает, что именно тогда сложились многие характерные черты личности, которые остались присущими западному человеку вплоть до Нового времени. Может быть, говорит Моррис, эта преемственность более видна при сопоставлении 1100 года с 1900-м, нежели с 1972-м (когда он завершил свое исследование), ибо Первая мировая война ознаменовала отход от многовековой традиции, но, так или иначе, изученное им время, XI–XII столетия, он расценивает как «поворотный исторический момент» в развитии культуры Запада. Хотя он и признает, что содержание понятия «личность» в ту эпоху отличалось от современного и термин «persona» не имел того смыслового эквивалента, какой он получил в Новое время, Моррис считает возможным пользоваться им в своем исследовании, так же как и понятиями «individuality» и «individualism».
Труд Морриса представляет собой заметную веху в изучении личности в Средние века. Но нужно не упускать из виду определенную ограниченность примененного им подхода. Моррис сосредоточил свое внимание на выдающихся деятелях «Ренессанса XII века», на творчестве и высказываниях богословов и мистиков, трубадуров и хронистов, т. е. на духовном мире интеллектуалов, которые оставили после себя письменные свидетельства о своих жизненных устремлениях и идеях. Вполне понятно и неизбежно то, что главными «героями» его анализа стали Абеляр и Бернар Клервоский, Иоанн Солсберийский и Бернар Вентадорн, Гвибер Ножанский и Хильдеберт Лаварденский, Вальтер Шатийонский и Отлох из Санкт-Эммерама.
В какой-то мере Моррис сам признает ограниченность социального диапазона привлеченных им источников: широкие круги общества, которые ему пришлось обойти молчанием, – горожане, крестьяне, бо́льшая часть светской аристократии, мелкое рыцарство и низшие слои духовенства – не имели возможности выразить себя в текстах, а потому, полагает он, о них ничего нельзя сказать.
Но даже и в столь ограниченном контексте позиции Морриса оказались уязвимыми для критики. Он обращал основное внимание на процесс индивидуализации, психологического вычленения личности из общности, не предпринимая анализа тех групп, в которые входили индивиды. Между тем, как подчеркнула К. Байнем, в XII веке складываются или укрепляются коллективы, объединяемые новыми ценностями, и входившие в них индивиды вовсе не порывали со своими группами и не противопоставляли свое возросшее личностное сознание ориентациям, принятым за образец этими коллективами.
Именно в этот период на Западе развивается и укрепляется корпоративный строй общества, оформляются его социально-сословные компоненты – ordines, получают распространение цехи и гильдии, новое значение приобретают мирки сеньориального господства, уплотнение сельского населения сопровождается укреплением общинных отношений. Байнем сосредоточивается на рассмотрении церковно-монастырских коллективов, в которых культивировался интерес к «внутреннему человеку» (homo interior).
По ее мнению, человек в ту эпоху осознает свою собственную природу, свое self (seipsum, anima, ego) как одинаковый во всех людях «образ Божий» (imago Dei), а не индивидуальность в понимании, более близком к современному, которое будет достигнуто лишь на исходе Средневековья. Неправильно, считает Байнем, смешивать «поиск внутреннего ландшафта человека и ядра человеческой натуры» (the discovery of Self) с «открытием индивидуальности» (the discovery of the individual). Абеляр и другие авторы XII века при обсуждении этических проблем, акцентируя важность человеческих намерений, вместе с тем подчеркивали и потребность в буквальном, вплоть до деталей, подражании жизни Христа. «Подобие» – фундаментальная теологическая категория XII столетия, и самоизменение индивида происходило в контексте, заданном образцами – Христом, апостолами, патриархами, святыми, церковью.
Байнем приводит высказывание проповедника XII века Норберта Ксантенского, который четко и образно передает противоречивую ситуацию личности в поле напряжения, образованном полюсами «абсолют – индивид»:
Человек искал и находил себя в той мере, в какой он воплощал заданные традицией образцы, приноравливаясь к уже существующим формам. Но поскольку число социальных групп возросло и между ними возникла своего рода конкуренция (старые и новые монашеские ордена), то стало актуальным осознание множественности социальных ролей и приобрела значимость проблема выбора образа жизни. Неверно ставить в центр религиозной жизни XII века, заключает Байнем, изолированного индивида с его внутренними мотивациями и эмоциями, – идея о том, что каждая личность уникальна, а потому ищет для себя индивидуального выражения, это идея современная, и Средневековью она чужда. В то время поиски внутренней мотивации сочетались с ощущением групповой принадлежности. Не случайно ведь авторы того времени (Герхох из Райхерсберга, Херрада Ландсбергская) испытывали острую потребность в классификациях, определениях разных «сословий» и «призваний» (ordo, vocatio). О личном стиле жизни речи не было. Расходиться между собой индивид и группа начинают лишь в следующем веке.
Вслед за Моррисом попытки обнаружить индивидуализм в XII веке были предприняты американским историком Дж. Бентоном. Отправляясь от анализа сочинения Гвибера Ножанского «De vita sua», Бентон ставит проблему соотношения индивидуализма и конформизма в тот период. Материал привлекаемых им источников, пожалуй, более широк, чем в монографии Морриса, но он скорее ссылается на почерпнутые из них примеры, нежели подвергает их углубленному анализу. Поэтому при чтении его работы возникает сомнение: не подобраны ли эти данные несколько односторонне, для подтверждения некоей априорной концепции?
В основу последней, как уже сказано, положен контраст между индивидуализмом и конформизмом. Но эти понятия, без труда различимые применительно к Новому времени, едва ли столь же легко обособить, когда речь идет о Средневековье. В самом деле, всегда ли те явления интеллектуальной жизни и личного поведения, которые современный историк склонен трактовать как симптомы индивидуализма, именно так воспринимались людьми изучаемой им эпохи? В отдельных случаях Бентон делает оговорки на этот счет, но в целом своеобразие «индивидуализма XII века» не прояснено.
Между тем было бы нетрудно показать, что тенденции мысли и поступки тех или иных средневековых интеллектуалов, которые ныне воспринимаются в качестве индивидуалистических, были порождены прямо противоположным стремлением этих интеллектуалов: укрепить господствующую традицию. Скажем, конфликт между Абеляром и теми церковными деятелями, которые дважды подвергли его осуждению на соборах в Суассоне и Сансе, в свое время изображался историками как результат сознательного противодействия этого мыслителя авторитету церкви (вспомним оценку Абеляра Энгельсом). С прямо противоположных идейных позиций, но методологически сходным образом оценивает личность Абеляра известный историк средневековой теологии и спиритуальности о. М.-Д. Шеню, утверждающий, что «пробуждение индивидуального сознания» на Западе имело место в XII веке, когда индивид осознал себя в качестве «нового» человека и «открыл себя» как предмет размышления и изучения. «Первым человеком Нового времени» (le premier homme moderne) Шеню считает именно Абеляра.
Ныне позиция Абеляра получает иное и, видимо, более убедительное объяснение. Как показал М. Клэнчи, автор недавно опубликованной содержательной монографии об Абеляре, «отец схоластики» хотел лишь глубже обосновать господствующее учение и отнюдь не видел в себе самом какого-либо подобия еретика. В то время как ряд исследователей были склонны изображать его в виде провозвестника Нового времени, «первого современного человека», Клэнчи видит в нем личность, глубоко укорененную в своем собственном времени; недаром подазаголовок его книги гласит: «A mediaeval life», – жизнь Абеляра рассматривается как одна из жизней людей XII века.
Бентон склонен применять к личностным характеристикам монахов и монахинь того времени понятия, выработанные современной психологией и, в частности, фрейдизмом. Так, он находит у аббатиссы Хильдегарды Бингенской симптомы «того, что на языке современной медицины называют функциональным нервным расстройством, истерической эпилепсией». От невротических комплексов, на его взгляд, не был свободен и Гвибер Ножанский. Но как провести разграничительную линию между религиозным визионерством и мистическим экстазом, явлениями, глубоко типичными для многих религиозных людей той эпохи, с одной стороны, и нервными расстройствами, диагностировать которые восемь веков спустя после смерти «пациентов» едва ли возможно, – с другой? Концептуальный аппарат, применяемый Бентоном при освещении процесса «открытия индивидуальности» в XII веке, не представляется вполне адекватным.
«Познай самого себя» – в этих словах дельфийского оракула, повторяемых время от времени отдельными авторами XII века, Моррис, Бентон и другие историки усматривают кредо самосознающих и познающих самих себя средневековых интеллектуалов. Но является ли это конституирующим признаком личности как таковой?
Я позволю себе в этой связи сослаться на безусловный авторитет Гёте. «Во все времена говорили и повторяли, что каждый должен стремиться познать самого себя, – заметил он на восьмидесятом году жизни, как бы подводя итоги многолетним размышлениям над природой человека. – Странное требование, которому до сих пор никто не мог удовлетворить и которому в сущности никто и не должен удовлетворять. Человек всеми своими чувствами и стремлениями привязан к внешнему миру, к миру, лежащему вокруг него, и задача его состоит в том, чтобы познать этот мир и заставить его служить себе, поскольку это необходимо для его целей». Следовательно, не самосозерцание солипсиста, углубленного в недра собственного духа и игнорирующего действительность, но активное взаимодействие индивида с миром, к которому он на самом деле всецело принадлежит, – таковы условия формирования и самоосуществления личности. Такой подход к проблеме коренным образом меняет исследовательскую стратегию историка. Забегая вперед, я хотел бы подчеркнуть, что обнаружение индивида в столь различных во всех отношениях средневековых текстах, как исландские саги, мемуары Гвибера Ножанского, «История моих бедствий» Петра Абеляра или проповедь Бертольда Регенсбургского, неизменно определяется именно его взаимодействием с социальной и интеллектуальной средой, деятельным участием в окружающем его мире, а вовсе не изоляцией от него.
Налицо необходимость для историков уточнить свой понятийный инструментарий в применении к познанию средневековой личности. Эта тенденция становится в последние годы более ощутимой и осознанной.
История европейской личности традиционно рассматривалась в основном в русле Ideengeschichte со свойственным ей представлением о культуре как о результате деятельности интеллектуальной элиты. Однако в 60-е годы XX века оформилось и заявило о себе другое научное направление – историческая антропология, внутри которого сложилось принципиально новое понимание культуры, свободное от ценностной окраски. Это последнее в огромной мере стимулировалось импульсами, шедшими из этнологии, или, как стали именовать эту науку, культурной антропологии. Для антрополога не существует привычного историку резкого разграничения между идеальными представлениями и материально-практической деятельностью, поскольку все без исключения проявления социальной жизни пронизаны человеческим содержанием, символичны и эмоционально наполнены.
Развитие исторической антропологии привело к резкому расширению круга вопросов, которые историк задает прошлому. Эти вопросы нацелены на реконструкцию мировиденья людей изучаемой эпохи, способов их поведения и лежащей в их основе системы ценностей, на содержание коллективных представлений. В кругозор исследователей был введен ряд тем, необычных для традиционной историографии. Восприятие природы, переживание времени и пространства, восприятие смерти, детства и старости, трактовка человеческого тела, его функций и болезни, организация повседневного быта, включая жилище и питание, оценка власти, права, свободы и зависимости – все эти и подобные им вопросы сделались за последние годы предметом интенсивного исследования, которое охватывает культуру и социум, реальность и воображение. История ментальностей, неотъемлемая составная часть исторической антропологии, предполагает углубление в сферу аффективной жизни, внимание к истории чувств, таких как страх и юмор, алчность и щедрость, личное достоинство и честь и т. п.
Новое понимание культуры было выработано антропологами, проводившими полевые исследования, как правило, в недрах небольших «экзотических» племен. Но они производили редкие «атаки» и на историю «горячих» обществ. Английский антрополог Алан Макфарлен внес свою лепту и в изучение европейской личности.
В монографии «Истоки английского индивидуализма» он рассматривает не одни только изменения в духовной жизни, но своеобразие социально-экономических отношений в средневековой Англии. Своеобразие это в его интерпретации граничит с исключительностью, ибо Макфарлен приходит к парадоксальному выводу, что в Англии, собственно, не существовало крестьянства, во всяком случае, в том смысле, какой обычно историки вкладывают в это понятие.
Прежде всего он подвергает критике трактовку английского средневекового крестьянства, содержащуюся в трудах таких корифеев аграрной истории, как П. Г. Виноградов, М. Постан и Е. А. Косминский. Эти ученые, подобно многим другим, квалифицировали английских крестьян XI–XIV веков в качестве «крепостных», лишенных свободы земледельцев, личные и имущественные права которых были предельно ограничены. Тем самым названные исследователи приписывали английским вилланам социально-правовые признаки, присущие подневольному крестьянству, которые были им хорошо знакомы на основе исторического опыта России и других стран Восточной Европы в начале Нового времени. Между тем Макфарлен придерживается мнения, что социально-правовой и имущественный статус средневековых английских крестьян радикально отличался от статуса русских крепостных. Макфарлен показывает, что английские крестьяне в XII–XIII веках обладали довольно широкими правами на свое имущество и земельные участки, включая право свободной купли-продажи наделов. Иными словами, эти земледельцы-собственники были, по его мнению, «индивидуалистами», что резко отличало их не только от восточноевропейских крепостных последующего периода, но и от их современников – крестьян других стран Запада.
Здесь нет необходимости останавливаться на вопросе о том, в какой мере был своеобразен аграрный строй средневековой Англии и насколько убедительно удалось Макфарлену обосновать выдвигаемые им тезисы. Идея исключительности англичан в изученный им период внушает определенные сомнения. Но сама попытка подхода Макфарлена к проблеме индивидуализма в Средние века в контексте анализа имущественных и социально-правовых условий (а не в плане рассмотрения феноменов одной только духовной жизни) безусловно заслуживает внимания.
Что касается работ собственно историков, созданных в русле исторической антропологии, то здесь, надо признаться, изучение личности остается пока, как кажется, наиболее слабо разработанным сюжетом. Задача состоит, видимо, в том, чтобы, не растворяя индивидуальность и неповторимость личности того же Абеляра, как и любого другого средневекового мыслителя, в коллективной ментальности, «возвратить» их в тот духовный универсум, к которому они принадлежали. Но что это значит? По-видимому, прежде всего – не вырывать процесс обособления личности из тех социальных трансформаций, которые происходили на Западе в Средние века, увидеть самоосознание индивидов в контексте общественных групп, в которые они входили. «Средневековый индивид» – это ведь недопустимо широкая абстракция. Реальное содержание ей может придать только такой анализ, который всерьез принимает в расчет место данного индивида в социальном организме. Конечно, религия и культура создавали общую атмосферу, определявшую пределы, в которых могла обнаружить себя индивидуальность, но свои конкретные очертания последняя обретала в группе.
Именно так ставится вопрос в коллективном труде «Человек Средневековья». Задача этого начинания, вдохновленного Ж. Ле Гоффом, заключалась в том, чтобы описать и объяснить средневекового человека в свете реальностей экономической, общественной, ментальной жизни. Десять историков, участвующих в упомянутом труде, рисуют различные профили людей изучаемой эпохи. Они рассматривают средневекового человека в его многочисленных социальных ролях и обликах: монаха, рыцаря, крестьянина, горожанина, интеллектуала, художника, купца, святого, маргинала; отдельный очерк посвящен женщине. Тем самым абстракция «человек Средневековья» наполняется конкретным содержанием. Только после того, как его увидели в самых разных ипостасях, в его социальной и интеллектуальной определенности и эволюционирующим на протяжении XI–XV столетий, можно отважиться на некоторые обобщения, характеризующие «средневекового человека» как такового, что и делает Ле Гофф во введении к тому.
Ле Гофф указывает на то, что в истории было немного эпох, которые сильнее осознавали бы универсальное и вечное существование «модели человека», нежели западнохристианское Средневековье. Эта «модель» была религиозно осмыслена и находила свое наивысшее выражение и обобщение в теологии. Следовательно, необходимо уяснить себе, каков был человек согласно средневековой антропологии. Ле Гофф отмечает, что пессимистический взгляд на человеческую природу, который преобладал в ранний период Средних веков, питаясь сознанием изначальной греховности и ничтожности человека пред Богом, сменился затем более оптимистической оценкой, проистекавшей из идеи создания его по образу и подобию Творца и его способности продолжить на земле процесс творения и спасти собственную душу.
Ле Гофф подчеркивает процесс изменения трактовки человека на протяжении Средневековья, в конечном итоге обусловленный сдвигами в его социальной жизни. Вместе с тем существовали константные концепции человека: «человека-странника» (homo viator) – странника и в прямом и в переносном (спиритуальном) смыслах – и человека кающегося, испытывающего душевное сокрушение. Земное существование осознавалось как путь, который в конечном итоге ведет к Богу; в реальной жизни образ странничества воплощался в паломничестве и крестоносном движении. Идея покаяния была связана с организацией внутреннего опыта и его исследованием, самоанализом – исповедью. Эта идея действительно вводит нас в самое существо проблемы средневековой личности.
Ле Гофф выделяет некоторые характерные черты психологии людей Средневековья: признаки их «одержимости»; их сознание человеческой греховности; особенности восприятия зримого и невидимого в их единстве и переплетении; веру в потусторонний мир, в чудеса и силу ордалий; особенности памяти, присущие людям, которые жили в условиях преобладания устной культуры; символизм мышления (средневековый человек – «усердный дешифровщик»); «зачарованность» числом, которое долго, до XIII века, воспринималось символически; столь же символическое переживание цвета и образа; веру в сны и видения; чувство иерархии, роль авторитета и власти и вместе с тем склонность к мятежу; вольность, свободу и привилегию – как центральные моменты системы социальных ценностей.
Изменения в структуре личности на протяжении изучаемого периода, пишет Ле Гофф, могут быть прослежены как в переходе от анонимности к личному авторству в литературе и искусстве, так и в эволюции образа святого, который спиритуализуется и индивидуализируется: не дар творить чудеса и социальная функция святого, но его жизнь – imitatio Christi – выдвигается во главу угла. Человек менялся на протяжении столетий, поскольку изменялся общественный строй, специализировались социальные функции и нравственные ценности «спустились с небес на землю».
Наиболее радикально против все еще господствующих традиций в изучении личности на средневековом Западе выступил Ж.-К. Шмитт. Он вынес суровый приговор концепции «открытия индивидуальности», назвав ее «фикцией».
Шмитт склонен выделять три аспекта рассматриваемой проблемы, каждый из которых он связывает с определенными терминами, а именно «индивид», «субъект» и «персона». Примером средневекового индивида он считает, например, рыцаря, стремящегося выделиться в пределах своей социальной группы личными доблестями и подвигами. Но, по мнению Шмитта, рыцаря нельзя назвать субъектом, способным к самоуглублению, – в противоположность монаху. Последний, хотя и подчеркивает свою принадлежность к ордену, склонен к рефлексии и интроспекции, а потому может быть назван субъектом. Что касается понятия «персона», то оно прилагалось прежде всего к ипостасям Святой Троицы. Вместе с тем это понятие предполагало единство души и тела, присущее человеку как существу, созданному по образу Бога. Наряду с этим Шмитт выделяет в латинских источниках те многочисленные случаи, когда термином «persona» обозначается явившийся с того света призрак («некто»).
С предлагаемыми Шмиттом дефинициями в целом можно было бы согласиться, однако ниже я постараюсь показать, что понятие «persona» пережило в изучаемую эпоху более серьезные трансформации.
Историки, пытающиеся реконструировать облик средневековой индивидуальности, прежде всего, стоят перед источниковедческой трудностью: в какой мере изучаемые ими памятники, преимущественно нарративные, правдиво запечатлели облик выдающейся личности, о которой они рассказывают? Мы вновь возвращаемся к вопросу о степени «прозрачности» текстов той эпохи, как правило, изобилующих риторическими клише и формулами, которые восходят к общему понятийному фонду. В монографии «Гийом Марешаль, лучший в мире рыцарь» Жорж Дюби стремится представить читателю жизнеописание английского аристократа XII – начала XIII века. Это жизнеописание содержится в длинной поэме, сочиненной неким трувером по имени Жан (ближе он нам не известен) около середины XIII века. Если верить поэту, он входил в окружение Гийома и мог почерпнуть из бесед с ним сведения о его жизни и подвигах. Но это обстоятельство едва ли может служить достаточной гарантией биографической достоверности. Время смерти героя поэмы (1219 г.) отделено от времени ее сочинения несколькими десятилетиями. Но даже не это главное: хотя автор и сообщает немало сведений о жизненных перипетиях Гийома, и не только о его славных деяниях, но и о длительной опале, которой он подвергся при одном из пяти английских королей, сменившихся на престоле на протяжении его долгой жизни, общая установка поэта, по-видимому, резюмируется в прозвище, заслуженном Гийомом, – «лучший в мире рыцарь». Иными словами, в центре внимания этого сочинения – прославление доблестей Гийома, вследствие чего идеализированный образ шевалье оттесняет и скрывает его индивидуальный характер.
К сожалению, критический анализ текста поэмы, который показал бы степень его достоверности, в данном случае мало занимает выдающегося французского медиевиста (в отличие от других его трудов, в которых оценке познавательных возможностей источника уделено гораздо больше внимания). Дюби задает себе и читателю не лишенный риторичности вопрос: не представляет ли собой эта поэма автобиографию либо воспоминания, подобные мемуарам Гвибера Ножанского и Абеляра? Дюби оставляет этот вопрос без ответа, но, как кажется, не исключает подобного сближения светского поэтического варианта биографии рыцаря с исповедью, которая чаще выходила из-под пера монахов XII века, в свою очередь, следовавших по стопам Августина. На мой взгляд, между поэмой о Гийоме Марешале и исповедями Абеляра и Гвибера Ножанского по существу нет ничего общего. Попытки Гвибера и Абеляра поведать о собственной жизни и о своих душевных переживаниях далеко отстоят от воспевания доблестей английского аристократа, внутренний мир которого остается вне поля зрения поэта.
Эта же проблема проникновения в индивидуальность выдающейся личности стояла и перед Ле Гоффом в его обширной монографии «Людовик Святой». Среди повествовательных и иных памятников XIII века историк выделяет такие, в которых, несмотря на пронизывающую их топику, в той или иной мере просвечивают индивидуальные черты характера и облика его героя. При этом Ле Гофф ясно осознает, насколько индивидуально-личностное перетекает в изученных им нарративных текстах в общее, типическое и сверхиндивидуальное. По существу он реконструирует два образа Людовика Святого – монаха и короля – и показывает, что в этой двойственности отражены противоречия эпохи. В монографии попытки воссоздать портрет святого короля предпринимаются в контексте реконструкции ментальностей, присущих людям XIII века, и такие категории, как время и пространство, святость, право, власть, паломничество и т. п., которые в других работах Ле Гоффа рассматриваются в качестве общих характеристик средневековой цивилизации, здесь получают освещение в плане раскрытия личности Людовика. Оценивая исключительные трудности, препятствующие познанию человеческой индивидуальности, Ле Гофф завершает один из разделов своей монографии вопросом: «Существовал ли Людовик Святой?» Ибо современный исследователь не может не осознавать, что между образом средневекового человека, который он пытается реконструировать, и живым индивидом той эпохи расхождение неизбежно, и измерить его в высшей степени трудно. По мысли Ле Гоффа, Людовик Святой желал быть живым воплощением всей присущей его времени топики, и в этом его стремлении парадоксальным образом выражалась его оригинальность. Эпоха Людовика Святого – время, когда, по выражению Ле Гоффа, основные ценности спускаются с небес на землю. В текстах, содержащих непосредственные свидетельства современников о святом короле, можно обнаружить некоторые реальные черты его личности. Но не менее показательно то, что в позднейших редакциях эти последние все больше вытесняются общими местами (то же самое можно сказать и о соотношении ранних и поздних редакций «Жития Франциска Ассизского»). Типизирующая модель и индивидуальный образ короля причудливо переплетаются в сохранившихся текстах.
Знакомство с научными дискуссиями и публикациями 90-х годов приводит к заключению о явно возрастающем интересе к проблеме индивидуального и индивидуальности. Правда, внимание участников дискуссий отнюдь не ограничивается Средневековьем и историей вообще, но распространяется на самые различные и не связанные между собой области знания. Так, в коллективном труде «Индивид. Проблемы индивидуального в искусстве, философии и науке» собраны работы, в которых принцип индивидуации рассматривается не только применительно к истории искусства и литературы (греческая трагедия, сочинения Макиавелли) или философии и социологии (Шлейермахер, Зиммель, Эрнст Юнгер), но и к естественно-научным объектам («Индивидуален ли атом?»). Нетрудно видеть, что понятие «индивидуум» в столь широком употреблении (отчасти на средневековый лад) утрачивает свою определенность и превращается в обозначение самых разнородных и едва ли сопоставимых феноменов.
К сожалению, сходная тенденция прослеживается и в трудах симпозиума «Индивид и индивидуальность в Средние века», который состоялся в Кёльне в 1994 г. Амбициозный замысел устроителей этой конференции, объединившей ученых из ряда стран, – более 50 докладов, почти 900 страниц печатного текста, – на мой взгляд, во многих своих реализациях находится в разительном контрасте с бедностью новыми идеями и традиционностью подхода к проблеме. По существу, перед нами обширный сборник частных изысканий в области абстрактной латинской терминологии схоластических трактатов, ибо именно такого рода доклады, посвященные анализу применения терминов «individuum», «individuatio», «persona» и т. п., занимают почти весь объем этого солидного тома. Объединение под одним переплетом огромного количества цитат, собранных из произведений средневековых теологов и философов, среди которых, естественно, почетное место занимают Фома Аквинский, Альберт Великий, Дунс Скотт, Буридан и Николай Кузанский, само по себе можно только приветствовать. Было бы странным не принимать в расчет высказывания этих выдающихся мыслителей, но вместе с тем авторам докладов, наверное, следовало бы в большей степени учитывать, что упомянутые термины сплошь и рядом употребляются в философских и теологических писаниях Средневековья отнюдь не исключительно в применении к человеческому индивиду и что вообще не он во многих случаях является предметом благочестивых размышлений. Термин «индивидуация» в теологических сочинениях распространяется на весь универсум божьих творений, и человек в контексте этих размышлений – всего лишь один из привлекаемых примеров. При этом человеческий индивид выступает в трудах средневековых мыслителей в качестве абстракции, но не в социально или психологически определенном облике.
Подобный подход, вполне естественный для схоластической мысли, как это ни странно, доминирует и в докладах участников ученого собрания 1994 г. Реконструируя аргументацию теологов XII–XV столетий, большинство участников недалеко продвинулись вперед, и идеи исторической антропологии, которая стремится увязать тенденции духовной жизни как на уровне идеологии и религии, так и на уровне ментальностей, с особенностями социальной действительности, остались, судя по всему, чуждыми большинству собравшихся в Кёльне узких специалистов.
Исключение представляют, собственно, лишь несколько докладов, в которых содержатся новые и интересные наблюдения. Таковы исследования о средневековом «портрете» (Б. Ройденбах), об изменениях психологии героя истории и саги, выражающихся в деградации характера главного персонажа (С. Багге), или об эволюции средневековой «автобиографии» (В. Кёльмель) и некоторые другие. Но подобные статьи – все же исключение. Когда же редактор тома Ян А. Эртсен ставит вопрос о причинах развития индивидуальности в средневековой Европе, то ответ его столь же лапидарен, сколь и банален: развитие городов…
Я не хотел бы быть слишком суровым по отношению к уважаемым коллегам, но вынужден констатировать: подняв столь важную для современной гуманитарной науки тему – личность и индивидуальность в Средние века, – организаторы и участники конференции не задались вопросом о том, каковы возможные новые способы ее трактовки и не имеются ли, помимо использованных ими, иные пласты исторических источников, анализ которых привел бы к обогащению наших знаний. Тем не менее существенно то, что проблема личности и индивидуальности в истории выдвигается в центр научных дебатов.
Изучение научной литературы обнаруживает, таким образом, два направления исследования, ориентированные на разные аспекты проблемы, более того, на разные предметы. Они тесно между собой связаны, но все же далеко не одинаковы. Одно направление сосредоточено исключительно на поиске индивидуальности. Историки и филологи, стремящиеся обнаружить ее черты в творчестве средневековых или ренессансных авторов, ставят в центр внимания тексты, в которых проявляются уникальность и цельность личности, ее углубление в себя и способность к самоанализу; эти авторы предпринимали попытки создавать автобиографии и исповеди, раскрывая в них собственное неповторимое Я. Такого рода штудии ценностно ориентированы, и исследователи этого направления вольно или невольно руководствуются идеей индивидуальности, утвердившейся в Европе в Новое время. Соответственно, в антропологии Средневековья они подчеркивают те аспекты, которые связывают ее с будущим. Один из вопросов, особенно занимающих ученых в этой связи, – вопрос о времени, когда человек Средневековья оказался способным «открыть» в себе индивидуальность.
При этом не в полной мере учитывается то, что историк, имеющий дело не с живым лицом (как психолог), а с текстами, документальными свидетельствами, едва ли вправе свободно оперировать понятиями и терминами психологии и что корректнее было бы говорить не об «индивидуальности», а о социальных, культурных, семиотических «механизмах» индивидуализации, о риторике имеющихся литературных и религиозно-философских текстов, о «ментальном инструментарии» (ср. «outillage mental» Февра).
На другом уровне рассмотрения проблемы внимание концентрируется не на индивидуальности, а на личности. Предпосылка такой постановки вопроса заключается в следующем. Индивидуальность складывается в определенных культурно-исторических условиях, и в одних обществах она себя осознает как таковую и заявляет о себе более или менее непринужденно и беспрепятственно, тогда как в других обществах доминирует групповое, родовое начало. Между тем личность – неотъемлемый признак человеческого существа, живущего в обществе. Но в разных социально-культурных системах личность всякий раз приобретает специфические качества. Личность – это человеческий индивид, включенный в конкретные социально-исторические условия; независимо от того, насколько она оригинальна, личность неизбежно приобщена к культуре своего времени, впитывая в себя мировиденье, картину мира и систему ценностей того общества или социальной группы, к которым она принадлежит. Исследование личности предполагает исследование в том числе ее ментальности, того содержания сознания индивида, которое в той или иной мере разделяется им с другими индивидами и группами.
Свою индивидуальность человек способен осознать лишь в обществе. Поэтому при изучении западноевропейского Средневековья следовало бы принимать во внимание оба подхода. Эти процессы – осознания человеком своего достоинства (самоутверждение личности) и осознания им собственной внутренней обособленности, индивидуальности – разные, но они неразрывно связаны, и на определенной стадии европейской истории первый переходит во второй. Но сводить личность к одной только индивидуальности было бы большой ошибкой. Это значило бы, что тот образ личности, который был выработан в Европе лишь к концу средневековой эпохи или даже по ее завершении, применили бы к собственно Средневековью, иными словами, пытались бы приложить к этой эпохе понятия и критерии, ей несвойственные.
Поэтому историку, который приступает к изучению проблемы «личность и индивидуальность в истории средневекового Запада», нужно расширить поле своих поисков. Очевидно, повторю еще раз, он не может ограничить их одним только хрестоматийным рядом великих индивидов эпохи – ведь такой отбор a priori ориентирует его мысль на изучение единичного, уникального и заведомо малотипичного. Разумеется, в выдающейся, творческой личности находят свое выражение идеи, умонастроения и психологические установки эпохи, но великий человек – не рупор, в котором эти умонастроения лишь предельно усилены, – они получают в его сознании и творчестве субъективную интерпретацию и сугубо индивидуальную окраску. Достаточно сопоставить «видения» потустороннего мира (visiones), которые записывались на протяжении всего Средневековья, с «Божественной комедией», для того чтобы стала наглядной колоссальная разница между тем, что мог вообразить себе простой визионер, переживший транс и бесхитростно поведавший о содержании своего видения духовному лицу, которое и записало его речи, с одной стороны, и всесторонне обдуманным творением великого поэта, суверенно конструирующего космос, – с другой.
К тому же, поскольку мы говорим о Средневековье, стоило бы учитывать, что высказывания и идеалы гения в тот период отнюдь не всегда имели широкий отклик у современников, так как оставались достоянием относительно узкого и замкнутого круга посвященных, образованных. «История моих бедствий» Абеляра, как и переписка его с Элоизой, стали известны в следующем веке, но кто знал об этих сочинениях при их жизни или непосредственно после их кончины? (Не отсюда ли, кстати, гипотезы о позднейшем создании этих произведений, которые были задним числом им приписаны?) Возможность «обратной связи» между индивидуальным творческим вкладом и средой в ту эпоху была принципиально иной, нежели в Новое время.
Но когда я говорю о необходимости для историка личности и индивидуальности расширить область поиска, я имею в виду и нечто иное (о чем уже было сказано выше, в предисловии). Культура Средневековья сложилась в результате синтеза античного наследия, включавшего как греко-римскую языческую ученость, так и христианство, с наследием варварским, по преимуществу германским. Ментальные установки и стереотипы поведения средневековых людей едва ли могут быть адекватно уяснены, если пренебречь варварским субстратом верований и ценностей. Между тем исследователи, которые пишут об индивиде Средневековья, как правило, почти все без исключения игнорируют эту сторону проблемы. Они исходят из молчаливой предпосылки, будто вопрос о личности и индивидуальности иррелевантен применительно к варварам. Убежденность в «первобытной примитивности» народов, которые на протяжении столь долгой эпохи пребывали на периферии античной цивилизации, препятствовала и все еще продолжает препятствовать охвату умственным взором историков более широкой европейской перспективы. Людей древнегерманского и скандинавского мира традиционно рассматривают в виде безликой массы, исключающей всякое личностное начало. Ниже я постараюсь показать, что это – глубочайшее заблуждение.
Изучение германских и в особенности скандинавских источников свидетельствует об обратном. Индивид в обществе языческой Северной Европы отнюдь не поглощался коллективом – он располагал довольно широкими возможностями для своего обнаружения и самоутверждения. Я убежден в том, что богатейшие источники, сохранившиеся на скандинавском Севере, должны быть привлечены для создания более объемной и сбалансированной картины развития и трансформации личности в средневековой Европе. Явно неправомерно ограничиваться, как это, к сожалению, принято в науке, двумя-тремя странами.
Здесь кажется уместным вспомнить о точке зрения Альфонса Допша, сформулированной еще в первой трети XX столетия. Австрийский историк по-новому поставил ряд вопросов социальной и экономической истории Европы на заре Средневековья. Его теория зарождения капитализма во Франкском государстве, в свое время вызвавшая оживленную дискуссию, была подвергнута во многом справедливой критике, и не о ней сейчас идет речь. Но существенно, что Допш подчеркнул роль индивидуалистического начала в жизни Запада в Раннее Средневековье. Он не ограничился исследованием хозяйственных основ общества и указал на целый ряд феноменов, свидетельствующих, по его убеждению, об односторонности господствующего взгляда на человека той поры как на безликую особь, якобы полностью растворявшуюся в коллективе, в типе и лишенную самостоятельности в своем поведении, во взглядах на мир. Возражая Карлу Лампрехту, который характеризовал Раннее Средневековье как период «типизма» в духовной жизни, Допш настаивал на том, что начало Средних веков отмечено «индивидуализмом» (отнесенным Лампрехтом, как и многими другими учеными, ко временам Ренессанса или даже к XVI–XVIII столетиям). Ограничения, которые налагались на проявление индивидуального начала в экономической и социальной жизни и сделались правилом в период развитого Средневековья (возникновение корпоративного строя, Stapelrecht – хозяйственное регулирование и монополизация контроля над торговлей, Zunftzwang – «цеховое принуждение», обязывавшее всех мастеров данной специальности вступать в цех и подчиняться его уставу, многостороннее ограничение прав крестьян и т. п.), – все эти тенденции отсутствовали в начале этой эпохи.
Допш указывает на индивидуализм хозяйственных порядков и обособленность поселений германцев, отмеченные еще римскими авторами и подтверждающиеся археологическими данными. Проведенные в более позднее время (в основном в середине и второй половине XX века) исследования археологов, специалистов по исторической картографии, почвоведению, климатологии, палеоботанике, радиокарбонному анализу, аэрофотосъемке и в особенности по истории поселений (Siedlungsarchaologie), не оставляют сомнений в том, что в древней Германии и Скандинавии общинные порядки не имели того значения, которое им придавали приверженцы «марковой теории» XIX века. Показана несостоятельность представлений о германцах как о скотоводах-номадах: они вели вполне оседлый земледельческий образ жизни. У этих народов преобладала хуторская система поселений, и каждый владелец вел свое обособленное хозяйство. Лишь с уплотнением населения хутора превращались в групповые поселки. По наблюдению Тацита, германцы устраивают поселки «не по-нашему» (не так, как было принято у римлян) и «не выносят, чтобы их жилища соприкасались между собой; селятся они в отдалении друг от друга и вразброд, где кому приглянулся какой-нибудь ручей, или поляна, или лес» (Germania, 16). Археологам удалось вскрыть следы «древних полей» (oldtidsagre), разделенных межами и каменными валами.
Предположения Допша относительно хозяйственного строя германцев во многом подтвердились. Их образ жизни действительно был отмечен печатью личной инициативы. Ее нетрудно разглядеть и в «Истории франков» Григория Турского, и в памятниках права начального периода Средневековья, таких, как, например, «Lex Salica», и в записанных гораздо позднее, но отражающих примерно ту же стадию социального развития сводах скандинавского права.
А как обстояло дело с эпосом германцев и скандинавов? Какие модели поведения запечатлены в песнях «Старшей Эдды», в поэзии скальдов, в исландских сагах? Незачем вслед за Допшем сближать эти модели с индивидуализмом людей Ренессанса (он не находит различий, например, между Лиутпрандом Кремонским, X век, и гуманистами) или сопоставлять «дух капитализма» с хозяйственной этикой Каролингской эпохи. Самый термин «индивидуализм» с его современными коннотациями едва ли адекватно передает жизненные установки людей Раннего Средневековья. Но проблема остается: не предшествовала ли корпоративному и типизирующему классическому Средневековью эпоха, отмеченная иным личностным самосознанием, которое находило меньше стеснений для своего выражения?
Повторю мысль, высказанную в начале этого Введения: современное состояние медиевистики не дает возможности нарисовать связную историю человеческой личности на средневековом Западе. К этой проблеме приходится подходить с разных сторон, привлекая различные типы источников. Отдельные очерки трудно объединить в общую и непротиворечивую картину. Историку приходится переходить от одного уровня анализа к другим, меняя ракурс, в котором рассматриваются те или иные категории текстов, и не претендуя на достижение всеобъемлющего синтеза. Все это привело к тому, что предлагаемая вниманию читателя монография состоит из серии более или менее обособленных и самостоятельных штудий. Feci quod potui, faciant meliora potentes…