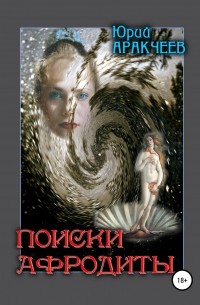Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Рая
А теперь пора вспомнить…
Август. Тихий погожий вечер. Мне – восемнадцать. Мы с моим новым знакомым охотником, «старшим товарищем» Владимир-Иванычем идем по тропинке вдоль речки Сестра (приток Яхромы). Впереди – деревня Медвежья-Пустынь. Переходим мост… Пахнет сеном, цветами, чуть-чуть тиной, болотом. Навстречу – девчонка лет семнадцати. Улыбается почему-то и мимо проходит… А у меня сердце так и замерло.
– Студенты здесь на уборке, – бурчит Владимир Иваныч. – Такую моду развели – студентов в деревню посылать на уборку. Из институтов, даже из техникумов…
Оборачиваюсь, смотрю ей вслед. Она тоже обернулась, смеется. Боже, как хороша!
Владимир Иваныч в другой избе останавливается, у него тут давние знакомые. А я у тети Нюши. Тоже как всегда. Пришел, тетя Нюша хорошо приняла, сидим за самоваром при свете керосиновой лампы – с ней и ее сыном, Борисом. И вдруг открывается дверь избы, и входит… Чудеса: входит та самая девушка, что встретилась нам по дороге! Да еще и с подругой. Мистика да и только…
Да, студенты техникума, да, на уборке пшеницы. Рая. Волосы у нее недлинные, но очень густые, шапкой – русые, вьются чуть-чуть. Глаза то ли голубые, то ли серые, при керосиновой лампе не разглядишь. Обе с нами за стол садятся, вместе пьем чай, из Москвы я конфеты да пряники привез.
И замечаю вдруг, что все словно изменилось в избе с их приходом – лампа, что ли, ярче разгорелась? Уютнее стало, теплее, радость, спокойствие овладели всеми. С милого ее лица улыбка не сходит, ямочки на щеках, а носик просто загляденье – чуть вздернутый, но прямой, аккуратненький, задорный такой. Ну, вот же она, настоящая жизнь, думаю я тотчас, вот же она! Ну просто ток какой-то исходит от девочек, а особенно от нее, от Раи – не смотришь, а все равно ощущаешь. Каждая клеточка в ней трепещет даже когда просто сидит и молчит. И ни нервозности, ни выпендривания никакого, одна радость жизни переполняет ее, кажется, хотя и сдерживается она, даже как бы и стесняется этой своей радости – говорит мало, а только улыбается, смотрит весело, а глаза так и лучатся.
Смеемся дружно – шутки, анекдоты пошли, истории смешные разные, – но вот решаем в карты поиграть, в дурака. Играет каждый за себя, проигравшего мажем сажей – палец в печное жерло сунуть надо, а потом одну полоску на лице «дурака» провести. Все постепенно то ли бесенятами, то ли дьяволятами становятся, а может, и мушкетерами – с усами, с бородками.
– Тебе идут усы, – говорит она мне, улыбаясь, сияя.
А уж как ей идут, трудно и передать. Глазки ее веселые на полосатом личике так и сверкают, зубы сахарные блестят, а до губ пухленьких, нежных никто, конечно, и дотронуться не посмел.
У нас с Владимир-Иванычем дорога длинная была, утомительная – двенадцать километров от Рогачева пешком шли, а перед тем четыре с лишним часа в переполненном автобусе на ногах стояли, – да и время теперь уж позднее, заполночь перевалило, а о сне и думать не хочется. Но все же пора ложиться – девчонкам на работу завтра с утра. Умываемся дружно под ночным звездным небом у деревенского колодца, из ковшика поливаем друг другу водой ледяной, хрустальной, чистейшей, а потом – сеновал.
Половина избы – это «двор», большое пространство под крышей в стенах бревенчатых: тут и корова с теленком, и куры с петухом на насестах ночуют, и огромная, под самую крышу, копна сена у дальней стены. При свете фонарика моего по деревянным шатким ступенькам спускаемся сначала на мягкий пол – земля с толстой подстилкой соломенной, – а потом на сено лезем по хилой приставленной лесенке. Шутки, конечно, опять, хотя и стараемся не шуметь – корова все ж таки спит со своим ребенком, – лезем поочереди, и уже сердце замирает у меня: как бы с ней рядом…
Сено шуршит, колкое, сухое, душистое, даже запах коровы перебивает. Устраиваемся в полном мраке рядком, норки себе в сене делаем, лежим, как в общем широком коконе, только подушки под головами да и одежда своя, одеял, естественно, нет никаких. Раздеться, конечно, нельзя – колко.
Фонарь я свой погасил, мрак полнейший, лежу и думаю: кто же рядом со мной, справа? Сердце колотится неудержимо, и понимаю вдруг: рядом – она. Пристраивается поудобнее и вдруг локтем меня задела:
– Ой, извини!…
Сердце мое прямо так и зашлось.
Да, она рядом, радость во мне клокочет, какой уж тут сон. Но вот вопрос: что делать надо и как?
Сначала по инерции шутим, конечно, анекдоты какие-то рассказываем, страшные случаи, но вот постепенно стихает все. Борис угомонился, и подруга его молчит – уснули, кажется. Рая не спит, я чувствую. У меня тоже сна ни в одном глазу, голова лихорадочно работает: что надо сделать? Как?
Корова жвачку перестала жевать, уснула тоже, только вздыхает иногда тяжело, курица какая-нибудь на насесте шевельнется время от времени, поквохчет во сне, а так тишина полнейшая. Я же в сомнениях весь. Руку осторожно протягиваю – как бы во сне, невзначай, – не ошибся ли я, она ли рядом со мной? Точно, она! Ойкнула тихонько. Но не отодвинулась, отмечаю, и сердце мое тотчас откликнулось молотом. Аж в голове зашумело, и дыхание прервалось: значит… Плечо ее под моею рукой, только тут ощущать начинаю. Господи, это же чудо какое-то: плечо теплое, нежное, ничего подобного никогда… Едва сердце слегка успокоилось и дыхание, начинаю руку по миллиметру сдвигать. Она не шевелится, застыла – спит как будто. Но дыхание тихое-тихое. Рука моя ползет медленно, а сердце ходуном ходит, и в ушах просто гром грохочет – хорошо, что другим не слышно. И вот…
О, Боже мой милосердный, это же грудь ее! Да, это она. Божественная, как в том давнем сне. И, наверное, светящаяся… Я даже глаза приоткрываю, смотрю, вглядываюсь. Нет, не видно, одежда загораживает, наверное, и моя рука… Не шевелится Рая, небесное создание, прелесть моя… О, Боже, может ли что-нибудь на свете сравниться с этим блаженством! Как во сне, в том прекрасном давнем сне. Но наяву теперь! Что же делать? Понимаю, делать что-то обязательно надо. Поцеловать? Но как? Не видно ничего… Но надо, надо!
Лежу в оцепенении некоторое время, рука моя по-прежнему на ее груди, но уже четко осознаю: нельзя останавливаться на этом, ни в коем случае. И тогда… Эх, была не была! Осторожно выпрастываюсь из кокона по пояс, приподнимаюсь, шурша безобразно сеном, обнимаю внезапно той рукой, что на груди ее лежала и… Словно дятел, попадаю сначала куда-то в подбородок, но ориентируюсь тотчас, и – в губы. Точно, в губы! Нежные, но сомкнутые… Не ожидала? Фиксирую поцелуй, так сказать, тотчас отстраняюсь, ложусь с облегчением на место – дело сделано…
Не отпихнула она меня и даже не вскрикнула, ничего не сказала, не шептала ничего. Но не спала – точно! Только вздохнула глубоко, да, это было…
И вот теперь, вот опять сокрушаюсь. Ведь не оттолкнула, не отпихнула ни разу! Что же я?…
И все же. Решился, все-таки решился тогда! Легко говорить теперь, а тогда ведь словно путы на себе рвал и сквозь мучительные сомнения, сердцебиение и головокружение пробивался. Все-таки попробовал, совершил поступок! Прогресс…
Утомился от неравной, мучительной борьбы, бедный. Вскоре уснул. И не заметил, как…
Разбудил петух.
И начинался бесконечный солнечный день, и радость так и клокотала во мне. Уже и родство как бы появилось между нами, сокровенная, интимная близость.
– Хорошо спали? – спросила тетя Нюша, когда мы в избе под умывальником умывались.
– Хорошо, хорошо, – ответила Рая, смеясь. И добавила – так, чтобы только я слышал: – Если устранить некоторые обстоятельства…
– Что же именно? – вспыхнул я тотчас, обижаясь зачем-то, хотя ведь «обстоятельствами»-то могли быть и Борис с подругой…
А она на работу на комбайн торопилась. У подборщика их ставят, сказала: пшеницу сжатую вилами подправляют, чтобы не терялись, не падали колосья на землю.
Яркое красное платье надела – вчера в другом была. Ну как же ей все идет!
Выходим вместе – она в поле, а я на рыбную ловлю, с удочками и червями. Солнце всплывает медленно, небо чистейшее, светло-голубое с серебристым отливом, впереди погожий августовский день…
А ведь меня тогда как раз только что в Университет приняли – школу с Золотой медалью окончил, приняли в МГУ без экзаменов, собеседование прошел с блеском, а там ведь конкурс среди медалистов был – три человека на место! Все – впереди! И вот еще царский подарок – очаровательное, божественное создание… Ну как же не радоваться?!
– Приходи в обед на речку, к омуту, ладно? – говорю ей напоследок. – Фотоаппарат у меня, фотографировать тебя буду. Придешь?
– Приду, если отпустят, – отвечает, улыбаясь задорно.
Уходит. Красное платье мелькает вдоль речки, потом через мост идет. Голые ножки чуть выше коленок сверкают. Босиком идет, милая.
А я не шагом иду дальше, я лечу просто. Упиваюсь солнцем, голубым теплым небом, травой ароматной, цветами. Растворяюсь, кажется, во всей этой благодати и на редкие облачка смотрю: серебристые, свободные, легкие… Мне – восемнадцать! Босиком иду тоже. Навстречу жизни…
Сижу на берегу, смотрю на поплавки, солнцу лицо подставляю, а сам стрекот комбайна, как божественную музыку слушаю. И все мои мысли – там. Ведь она там где-то орудует вилами… Рыба не очень-то ловится, но радость от меня, наверное, словно сиянье расходится.
А ночью – опять сеновал, и опять она рядом, и рука моя осторожная теперь уж и до бархатной ноги дотронулась даже. И это такое блаженство, что трудно и передать. Но только до начала трусиков, никак не выше. Платье ее под трусики подоткнуто – чтобы сено не попадало, так надо думать, – и разрушать эти баррикады я все-таки не решаюсь. Опять легкий поцелуй, но опять, увы, мимолетный и без решительного ответа – Борис с другой девушкой тут как тут, как и прежде.
Уснули довольно скоро в этот раз, а на другой день, увы, с самого утра – дождь. И бригаду, где Рая, перевели на другие работы в соседнюю деревню, за несколько километров. И поселили там… Только и успел я пару снимков сделать и телефон ей свой написать – у нее, как сказала, в Москве телефона нет.
И больше ни разу не видел ее в то лето, но весь оставшийся август ходил, переполненный ею.
Но как вернулся в Москву, все и отодвинулось тотчас. Она не звонила пока, а у меня новая жизнь началась. В которую я поначалу очень и очень верил.
Позвонила через два года с лишним, представьте себе. А все потому, что я на что-то решился тогда, на сеновале, теперь-то в этом абсолютно уверен. Хотя и была попытка моя неумелой и неуклюжей, но она – была! Это и стало причиной последующего. Помнила!
К тому времени я из университета ушел, на Рыбинское море ездил несколько раз, «самый длинный день» уже был, но с Тоней пока что еще не встречался.
Не забыла?! Вот это номер…
Встретились в октябре что-нибудь. Повзрослела, конечно – двадцать уже. Но стала, может быть, даже лучше: женственность расцвела. Меньше девичьего, воздушного, солнечного, что ли, но зато больше реального, земного – материального, так скажем. Фигура просто потрясающая. И движения очень женственные. Подрезала волосы, окрасила в черный цвет. Умело наложенная косметика. Назвалась по телефону сначала зачем-то Олей, потом со смехом призналась, что она – да-да, та самая Рая: «Помнишь, в Пустыни, сеновал помнишь? Узнал?»
Еще бы.
Сначала сходили в кино, потом я, естественно и как бы между прочим:
– Зайдем ко мне, может быть? Здесь недалеко…
– Почему бы и нет? Зайдем.
Сняла пальто – тут-то я и увидел роскошную ее фигуру, ощутил новую, взрослую ее женственность. Вообще-то лицо изменилось не сильно – все та же живость, радость жизни, рвущаяся наружу. Но чуть-чуть проще оно все же стало, может быть даже слегка грубее.
Что мы тогда делали, не помню, но время было уже позднее, а домой она как будто и не собиралась.
– Ну, что же, давай спать ложиться? – сказал я наобум и как бы даже почти в шутку.
– Давай, – спокойно и просто сказала она.
Тут-то у меня и началось. Перехватило дыхание… Господи, конечно, она была лучше и Ленки, и Миры, и Светки, и других всех. В сущности она была даже не хуже Аллы, а если вспомнить, тем более, то лето и сеновал… Неужели? Неужели с ней ЭТО, наконец, может быть?…
С того момента, как она спокойно так согласилась, я плавно и основательно погрузился в транс. Это ведь не просто, это в сущности коротенькая, но пылкая моя любовь, это посланница из того чудесного лета, когда… Нет, такого просто не может быть, так не бывает… И она такая красивая, она потрясающе красива сейчас, а фигур таких я, пожалуй, не видел… Нет, такого не может быть никогда… Судьба, ты издеваешься надо мной!
Она тем временем спокойно разделась, легла. К стенке, аккуратно оставив мне место рядом. Правда, она не совсем разделась, осталась в комбинации, трусиках, но все же…
И вот она лежит на спине рядом со мной, в моей постели. Этого не может быть, но это действительно так. Я тоже на спине, мы прикасаемся плечами. Конечно, я не в себе, это ясно. Единственное, на что хватает меня – легонько провести ладонью по ее плечу, груди. Плечо прохладное, удивительно гладкое – отполированный мрамор. Под комбинацией она, оказывается, без бюстгальтера, я и вовсе обалдеваю, ощутив ладонью ее ошеломляюще нежную высокую грудь, слегка выпирающие соски, в голове у меня смерч, цунами, я сейчас задохнусь, мне воздуху не хватает. Она тоже вздрагивает слегка, когда я касаюсь груди, но не делает ничего, не поворачивается ко мне. И молчит. Только дышит чуть напряженно.
А я убираю руку и лежу в клиническом ступоре. Боюсь шевельнуться, словно опасаюсь вспугнуть, нарушить происходящее волшебство, никак не могу осознать, что такое возможно – вот, оно происходит! – она рядом со мной, в моей убогой комнате, на моей кровати. И просто случайно на другой кровати нет жильцов – старые уехали, а новых мы с Ритой пока не нашли. Может быть, это сон?
Да мне тогда просто молиться на все это хотелось, какие уж действия! Тони, повторяю, тогда еще не было в моей жизни.
А потом совсем невразумительное во мне началось. Я лежал рядом с живым этим чудом и чуть не плакал. Мне чуть ли не в голос рыдать хотелось. Они душили меня, рыдания эти дурацкие, я едва сдерживался, едва-едва – хорошо, что она ничего не говорила, а то бы… Нахлынуло вдруг все самое грустное, мрачное – смерть всех подряд: матери, отца, бабушки, тети Лили, бедность беспросветная, а тут еще и с университетом прокол… Со стороны я, наверное, был как каменный. Я, наверное, был сгусток горечи – вместо того, чтобы блаженствовать, радоваться… Теперь понимаю: ей тогда, видимо, передалось. Потому она и не делала ничего и не говорила. А может быть и у нее похожее состояние было? Я ведь потом только узнал, какая у нее жизнь – не лучше моей, а то и похуже. Вот она и лежала тоже как каменная, мраморная, не шевелясь.
Так, представьте себе, и прошла вся ночь: мы периодически засыпали, просыпались, засыпали опять. И никто из нас не изменил позы – даже на бок не повернулись, ни я, ни она. Словно две мраморные теплые статуи лежали мы рядом – Адам и Ева советские, законопослушные граждане, строители будущего всеобщего всемирного счастья, черт нас возьми. Теперь-то я понимаю, что не случайно так получилось, символ даже усматриваю: у «врат Рая», можно сказать, так и пролежал я всю ночь вместе с девушкой по имени Рая. Так ведь оно и было тогда не только у нас. Мы и понятия не имели о настоящем счастье. Нам мозги бесконечно пудрили, а на самом деле душили нас, выжимали, паутиной своих постановлений и идеологий опутывали. Чтобы до истинного рая не допустить. Я это потом, много позже понял, а тогда, конечно, не понимал.
Тогда утром, когда, наконец, поднялись, так и не преодолев странного этого транса – ни я, ни она, – я провожал ее до метро и печально и натужно шутил:
– Надо же, мы были с тобой прямо как брат с сестрой, да?
Умница, она смеялась. И не было ни презрения, ни обиды в ее смехе. Мне кажется, она поняла. Она смеялась почти так же весело, как в то лето.
– Знаешь, ты извини, – сказал я серьезно. – Что-то было со мной, сам не знаю что. Ты мне очень нравишься, просто очень. Сам не понимаю, почему так.
– Но ты же целовался тогда со мной, помнишь? На сеновале…
Помнит! Вот это да.
– Ну, это было так неумело, я, помню, сначала в подбородок попал…
Она опять смеялась, прелесть моя.
– Да нет, в общем-то все нормально. А я так испугалась тогда, не ожидала.
– Все хорошо будет, я думаю, это просто в первый раз так. Ты мне нравишься очень…
Я говорил это и правильно делал, но барьер-то передо мной еще больше вырос. Что-то надо делать решительное, я понимал.
А она опять не звонила долго. Прошла зима, наступила весна, май пришел – вот тогда я и встретил Тоню.
Этап моей жизни под названием «Первая женщина, Тоня» в социальном плане включил уход из лаборатории хлорфенолов, свободный полет в течение нескольких месяцев – фотографирование детей в детских садах, успешное укрывательство от милиции и фининспекторов (правда, однажды, на ВДНХ, меня повязали, а я не избавился вовремя от заказанных групповых фотографий, дело кончилось тем, что меня навестил-таки фининспектор, но, увидев, как «богато» я живу, решил все же закрыть дело и предложил написать бумагу о том, что я уже «прекратил заниматься кустарным промыслом»), – и я оформился, представьте себе, рабочим сцены в филиал Государственного Академического Большого театра СССР. То есть стал фактически грузчиком, потому что работал на перевозке декораций. И надо сказать, что работа вполне романтичная: зимой, порой аж в тридцатиградусный мороз мы, бригада грузчиков из четырех человек, грузили декорации от вчерашнего спектакля, ехали в Мастерские, где хранились они, потому что не помещались в здании театра, сгружали эти, нагружали и тщательно «увязывали» другие – для спектакля сегодняшнего. И ехали обратно в театр вместе с декорациями, в открытом кузове грузовика. Естественно, я бесплатно посмотрел фактически все спектакли – в филиале, и в самом Большом театре, на Главной сцене. А главное – свободна от всяких глупостей голова, можно думать о том, о чем только душа желает, да и работа на свежем воздухе, что тоже немаловажно. А еще я научился «делать температуру» на медицинском термометре, к тому же у меня постоянно были слегка воспалены гланды – так что бюллетень давали запросто с диагнозом ОРЗ, и я аккуратно брал его каждый месяц дней на десять – чтобы спокойно работать над своими рассказами и читать книги в Библиотеке имени Ленина. Тем более, что бюллетень отчасти оплачивался.
Наконец, и из театра уволился, но уже через месяц стал представителем самого что ни на есть рабочего класса – официального «гегемона» советской страны. То есть оформился на Московский завод малолитражных автомобилей – МЗМА. Потом он стал называться АЗЛК, а в конце концов, в «перестройку» – АО «Москвич». Но я, конечно, потом на нем не работал…
Вообще-то должен сказать, что эти мои метания по предприятиям совершенно разного профиля были не от плохой жизни, а от хорошей. Я это делал нарочно: жизнь таким образом изучал. И, к тому же, хотя и с пробелами, но все же заполнял Трудовую книжку, иначе меня запросто могли выявить как «тунеядца» и не только оштрафовать, но, глядишь, комнаты лишить и из Москвы выслать. Такое в те годы было не редкость.
И вот – внимание! внимание! – Рая вдруг опять позвонила. Опять через два года, но теперь уже – после Тони. Естественно, мы тотчас договорились. И встретились.
Мне стукнуло уже 23, а ей, естественно, на год меньше. Еще изменилась, конечно: что-то появилось в ней новое и чужое. От прежней девочки осталось немного, но очень красивая все равно. Хотя пожалуй слишком ярко накрашенная. И словно не было прошедших двух лет – мы как-то по-деловому, почти и не разговаривая, лишь выпив чуть-чуть, стали ложиться в кровать: она спокойно и молча разделась – полностью в этот раз, – быстро улеглась к стенке… И я тоже, стараясь ни в коем случае не думать о прошлом, не впадая в романтический транс, как-то почти «по-военному» мгновенно скинул одежду, нырнул к ней и тотчас же занял на ней «боевую позицию». И она тотчас, как по команде, раздвинула ноги…
– Ой, кто это тебя научил? – с удивлением и с улыбкой проговорила она, как-то привычно, легко и с готовностью кладя обе руки мне на спину.
Никто меня не учил, да я и не научился, милая ты моя, мельком подумал я, хотя ничего не сказал. Потому что боялся отвлечься, боялся, что начнется опять, я старался давить в себе все эмоции – это просто, ничего особенного, вот так надо делать, вот так, уговаривал я себя… И некрасивым, грубым рывком проник в ее прекрасное тело – с ужасом ощущая кощунственную эту грубость, это святотатство, безобразие это, и чувствуя, что там у нее еще сухо, и волоски грубо раздирают нежную, тонкую мою кожу – я чуть не вскрикнул даже от острой, режущей боли, – да и ей было, наверное, больно, но она, очевидно, понимая меня, терпела. Это было безобразно, унизительно для обоих, но мы оба словно старались скорей, скорей проскочить опасную, роковую черту – пока не вернулось общее наше прошлое. Которого мы боялись.
Несколько поспешных встречных движений с ее стороны – привычный, видимо, для нее теперь ритуал, понял я тотчас, – несколько настойчивых, злых движений моих – через боль, как преодоление, как необходимая, отчасти приятная, но очень болезненная процедура, блаженная мгновенная судорога, учащенное дыхание, мощное биение сердца, облегчение страданий моих, потому что в недрах ее после моей судороги стало тотчас влажно и скользко, внезапный всплеск нежности к ней, сочувствия, благодарности… Постепенное возвращение к реальной действительности. Перейден Рубикон, слава Богу, уфф.
Убогая моя постель – хотя теперь и с чистыми, свежими двумя простынями, – ночной сумрак в комнате, далекая молчаливая она, опустошенный, хотя и ощущающий в теле определенную легкость я. Медленно тянется время. Что ей сказать? Что я на самом деле вовсе не научился, что она у меня всего лишь вторая, а первую можно и не считать, потому что любви там фактически не было и в помине, что я никогда не забуду тех августовских дней и ночи на сеновале, что я и сейчас влюблен в нее, но что-то непонятное происходит с нами обоими, что мы вот только что совершили, вне всяких сомнений, действие правильное, но так некрасиво и унизительно, а виноват в этом, конечно, я, хотя и не понимаю, почему так – ведь я же стараюсь быть самим собой и не предавать то, что люблю, но получается все время так убого, уныло, так плохо… И что самое горячее желание у меня сейчас – выплакаться у нее на плече, как на плече у мамы, которой у меня фактически не было, потому что я ведь ее совсем не помню. И что все с той – августовской – поры изменилось – и я, и, очевидно, она, мы уже становимся бесчувственными, как многие, как, думаю, большинство – жующие, пьющие, говорящие чепуху, а то и вовсе молчащие живые трупы – зомби! – хотя и теплые, вроде бы, даже совокупляющиеся… Что это вовсе не то, что могло и что должно обязательно быть, но как это сделать, как вернуть прошлое, спасти его и не потерять, а – улучшить…
Я молчал. И она тоже молчала. Трудно представить, что она чувствовала – теперь-то я понимаю, что она могла вообще НИЧЕГО не чувствовать, кроме, может быть, разочарования, неудовлетворенности, легкой досады… Но надо отдать ей должное: мне она этого не показала. Не выдала ничем своего недовольства, не обидела грубой насмешкой, не упрекнула.
И все же произошло у нас, слава Богу! Сквозь стыд, неловкость, досаду, привычную тягучую тоску пробивалось во мне ощущение маленькой, но – победы. И, конечно же, нежность и благодарность ей. Главное, главное для меня: Тоня оказалась не случайной, не единственной; значит, я, скорее всего, нормальный, все получится у меня со временем, надо только учиться, учиться, не унывать, не падать духом, настойчиво продолжать. И еще открытие: вот ведь, оказывается, с их стороны может быть просто, без шантажа и финтов. Без мучительной, нелепой осады, лжи, панической боязни последствий, бездарных, унылых игр. Со встречной, спокойной готовностью, симпатией откровенной, может быть, даже… с любовью…
Расстались хорошо, дружески, она обещала звонить. Сказала, что работает в каком-то продовольственном магазине. Товароведом, что ли.
Через некоторое время позвонила, зимой, кажется. Мы встретились. Получилось лучше, но не намного. Я все еще был молчалив и скован. Как, впрочем, и она. Почему она? И сейчас не вполне понимаю. То ли действительно переживала отчасти, как я, то ли такая вот молчаливая деловитость стала естественной для нее… Не знаю. Такой вот момент запомнился: она забралась на меня верхом и, старательно погрузив в себя мой торчащий жезл, сказала с улыбкой:
– Ну, что же ты? Работай…
Вот тогда-то и заметил я с тщательно скрываемой горечью, что тело ее далеко не то, что раньше. Она располнела, погрубела явно, кожа уже не та. И грудь не такая божественная.
Но мой барьер потихонечку исчезал.
А теперь слушайте. Слушайте все! Внимание, внимание!
Казалось мне самому (а не только им и, наверное, вам тоже): ну какой я, к чертям, мужик? Двадцать четыре года уже, а был с женщиной всего несколько раз да так, что и вспоминать стыдно. Хотя и не падал духом все же – отметьте, отметьте. Потому что это, последнее, – самое главное. Помнил я лучшие картинки прожитой до сих пор своей жизни, не забывал их ни при каких обстоятельствах. Понимал: в них истина! А то, что не получается пока по-настоящему – грустно, конечно, но не безнадежно. Не может быть безнадежно. Не может, не может…
Итак, встречались мы с Раей два раза близко, но получалось это, как известно, довольно убого – неумело, уныло. И на какое-то время она из моей жизни опять исчезла. Работал я теперь, как уже сказано, на автомобильном заводе, а перед тем провел трудное лето, активно фотографируя в детских садах – так и назвал для себя этот период: Трудное лето, Программа №1. Почему «программа»? А потому, что нужно было устроить более человеческую жизнь, наконец: надоела постоянная унизительная нужда, отсутствие самых необходимых вещей, убогость. Даже занавесок на окнах не было.
И, виртуозно ускользая от милиционеров и фининспекторов, всего за полтора месяца я заработал столько, сколько, например, за полгода перед тем в театре. И купил себе: велосипед, приличную радиолу, костюм, часы, 2 рубашки, лыжи, плащ, брюки, ботинки, носки, белье, тюлевые занавески на окна, дрова (да-да, у нас все еще была печка). И даже кое-какие деньги еще и остались на первое время – до тех пор, пока не начал трудовые рекорды бить на заводе. А на заводе, кстати, мне поначалу нравилось: я ведь там даже несколько профессий – в порядке исследования жизни – освоил. Станочник, слесарь-сборщик, подсобный рабочий, грузчик…
И вот – тогда еще станочником был – мне, наконец-то, опять позвонила Рая. И мы, разумеется, встретились. И тут вот что было. Слушайте, слушайте все!
Не знаю уж, что ее ко мне тянуло, несмотря на позорную мою неумелость. Но позвонила ведь и пришла! Лучше даже стала, чем в прошлый раз: цветущая, красивая, уверенная в себе. Что-то у нее в жизни, наверное, изменилось. «Класс А» – вот как выразился, не вполне для меня понятно, сосед, врач-гинеколог, увидев ее случайно в коридоре. А мой сосед не только по профессии, но и по жизненному опыту был профессионалом в этой пикантной области.
Идти на завод нужно было в ночную смену. Из дома значит – в одиннадцать двадцать вечера, самое позднее. Пришла же она часов этак в восемь. Выпили чуть-чуть, я ей что-то о своей новой работе рассказывал, показал с гордостью руки, изрезанные металлической стружкой и острыми краями деталей – я этими трудовыми ранами почему-то очень гордился. Вообще гордился своей работой – получается ведь, и неплохо, я действительно рекорды бил, хотя, как потом оказалось, напрасно. Нормировщики с секундомерами вокруг забегали и нацелились нормы производственные повышать, а зарплату, естественно, снижать. То есть по чисто советскому принципу: выжимать из тружеников как можно больше, а платить как можно меньше. Чтобы, значит, «производительность труда при социализме» неуклонно росла. Но если я, здоровый парень, могу выполнить норму, то женщины, которые на тех же станках работали, делали это с трудом, и получалось, что я своими рекордами жизнь братьям и сестрам по классу не улучшаю, а ухудшаю. Пришлось поскорее опомниться и пыл свой трудовой умерить. Ну, а гордость за свои способности все равно осталась.
Короче, выпили мы чуть-чуть, поговорили, осталось часа полтора. Но перед тем, как чудесным делом заняться, поставил я на всякий случай будильник на без четверти одиннадцать: мало ли, вдруг увлечемся или уснем… А опаздывать на завод нельзя, у нас с этим делом строго. И вот…
Не знаю, почему так получилось. Может быть потому, что я на заводе рекорды бил и поэтому чувствовал себя уверенно; может быть оттого, что времени оставалось немного и витать в облаках некогда; а может в том дело, что периодически на будильник смотрел и таким образом чрезмерное волнение перед сдаваемым экзаменом как бы гасил… Но только получилось на этот раз все совсем по-другому. Ну просто слов нет, как все хорошо получилось. Не вскакивал я на этот раз, как кавалерист в седло. Наслаждался красотой божественной и радовался. И не торопился. И только чуть позже спокойно и плавно к дальнейшему приступил. Постепенно, медленно, не торопясь…
Так и раскрылся навстречу мне волшебный и нежный ее цветок – влажный, горячий, словно зовущий и ласково привечающий. И внезапно вдруг в тесном и сумасшедше волнующем ее раю я оказался, а лицо, глаза и губы ее тем временем продолжал целовать – и губы эти тоже навстречу моим губам открывались, и встречали меня ласково, и привечали. Ну просто Бог знает что тут с нами обоими стало – мы словно в какой-то теплой, солнечной реке плыли вместе, и медленно так, счастливо и спокойно, обнявшись тесно и даже как бы сливаясь друг с другом, один в другого перетекая. И свободно так, и легко.
И ощутил я молниеносно, мгновенно, что из обиженного, прибитого лишениями всякими, задвинутого и несчастного, чуть ли не полуимпотента вдруг чуть ли не профессором заветного этого дела стал – все делаю, как надо, все правильно, вот же, раскрылась дверь, и мгновенно все изменилось.
То есть ни о чем натужно, настойчиво не думал, не считал, что это какой-то экзамен – и она ни о чем другом, кроме радости этой, кроме желания нежной, ласковой быть, меня обнять и к себе приблизить, тоже не думала… Вот все и получилось. Как же просто, Господи, Боже мой, промелькнуло в сознании, помню, но и на этой мысли я не зацикливался, а просто плыл и плыл в ошеломляющем блаженстве. И радовался.
Господи, думаю теперь – в который уж раз в своей жизни! – что же мы творим над собой, как же мы изгаляемся над своей жизнью, что только ни выдумываем, как только ни выпендриваемся – лишь бы не жить нормально, не испытывать лучшее из того, что можем, не следовать тому, что с таким неиссякаемым постоянством, безграничным терпением предоставляет нам мать-Природа. Страх, лень, глупость… Ну, да ладно, обо многом еще рассказать нужно – вернемся в прошлое.
Музыка это была. Божественная, великая музыка слияния наших тел и, конечно, душ. И представить немыслимо, что было бы на сеновале тогда, в августе, если бы я был посмелее, поразвитее, что ли. Но и теперь все равно это была божественная, великая музыка. Она, любимая моя девочка, молчала, только дышала напряженно и подчинялась мягко, и двигалась мне навстречу в блаженном музыкальном ритме, и гладила мою спину, и прижимала меня к себе, и стонала, и вздрагивала периодически, и не было никаких сомнений в том, что все это ей очень нравится, что я делаю хорошо; не только для меня, но и для нее это важно, мы заодно… Вот о чем я мечтал столько лет! Не ошибся в своих надеждах, в вере своей – вот так оно и должно быть…
А когда будильник зазвонил – куда ж денешься… – я дотянулся до него рукой, не уходя от Раи, и кнопку нажал. И через несколько минут только позволил себе разрядиться, закончить потрясающую, божественную эту мессу – и великий вихрь словно подхватил меня, вознес в небо, ослепил на миг и плавно, бережно опустил на землю. Точнее – на кровать, где мы с этой потрясающей девушкой были.
– Пора, милая, – сказал я. – Пора, ничего не поделаешь.
Послушно, с детской какой-то готовностью она тоже начала одеваться, и я заметил, что легкая улыбка не сходит с ее лица.
– Столько острых ощущений, столько острых ощущений, – сказала она, по своему обыкновению шутя и смущаясь одновременно, натягивая трусики свои, а потом чулки.
И по счастливой улыбке, по сияющим глазам и щечкам розовым было ясно: так оно, несомненно, и есть.
«Наконец-то победил, – подумалось мне. – Наконец-то по-настоящему. Даже не верится».
Чуть не бегом до автобусной остановки бежали. И ко времени в проходную я все же успел.
Легко понять, что чувствовал. Мало того, что вот теперь-то я и есть, наконец, мужчина – барьер и на самом деле растаял как будто бы, – но у меня к тому же есть теперь она, Рая! Потрясающая девушка – красивая, с отличной фигурой, совершенно великолепной грудью, попкой в высшей степени соблазнительной (запомнился момент, когда между кроватью и печкой протискивалась она к вешалке за своим пальто, и ее круглая попка так аппетитно пролезала, с легким шорохом натянутой шерстяной юбки…), с таким прекрасным лицом – радостным, живым, с сияющими, искрящимися глазами, – с нашими общими воспоминаниями о том августе, счастливом лете… Близкое существо, родное.
И воскресли в моем воображении и «Купальщица» Коро, и «Нимфа» Ставассера… И подумал я: а что если… Ну, конечно! Я ведь даже, когда уходили, спросил:
– А можно будет тебя сфотографировать без всего? У тебя такая фигура классная…
– Почему бы и нет, – сказала она, пожав плечами и улыбнувшись. – В следующий раз, если хочешь.
Разумеется, сердце у меня так и замерло.
Фотографией я, как известно, занимался уже давно, и даже первые снимки «обнаженной натуры» у меня были. Тоню сфотографировал, как ни странно – позволила, к моему удивлению, хотя близости у нас тогда еще не было. И еще соседку свою как-то уговорил, но плохо снял, бездарно – о чем речь впереди. И вот теперь… Неужели? Она, Рая, действительно великолепна – в предпоследний раз была как-то хуже, но теперь расцвела опять: я ведь в полумраке видел светящееся подо мной тело, отпечаталась божественная картинка. Разбросанные волосы на подушке, откинутое прекрасное лицо, белая шея, плечи и совершенно потрясающая, ослепительная грудь с темноватыми, умопомрачительными кружками и торчащими ягодками сосков… Похоже на сон. Неужели действительно в следующий раз?…
Ночью в цехе я ощущал себя словно в полете. Да ведь это же первая настоящая встреча с женщиной у меня была. И с какой женщиной! Легкость в теле необычайная, усталости никакой, голова свежая: подъем, прилив сил, петь от радости хочется. Мелькали в памяти картинки-воспоминания: ее вздох, стон, поворот лица, нежная рука гладит мою спину, бархатная нога, которую я обнял одной рукой – она закинута на меня, и я просто таю от ощущения ее покорной расслабленности, удивительной гладкости кожи, – а там, ниже и вовсе настоящая бездна блаженства: влажно, скользко, тепло, уютно… Восторг!
А на другой день, когда дома уже успел отоспаться после ночной смены – два звонка в коридоре: ко мне. Открываю парадную дверь: она! Сияющая улыбкой, благоухающая, веселая – праздничная!
– Я на минутку. Извини, что без звонка, я не могла не прийти. Хотела тебя увидеть.
И цветок протягивает – гвоздику. Вот это да.
Ничего не успели, конечно, она в обеденный перерыв прибежала, но зато капитально договорились, что через три дня – в субботу – она придет пораньше, днем, и останется у меня на всю ночь. А накануне, в пятницу, позвонит.
Значит, ошибся я в своих муках, сомнениях, в скованности своей, когда лежали, как статуи, а она почему-то была такой же, как я, и я подозревал даже, что у нее тоже несладко, и она тоже думает о не очень-то удачной жизни своей, а потому и не помогает мне ничем – то есть мы с ней как бы и близки, больше в горе, чем в радости?
Нет, граждане-соотечественники. К сожалению, не ошибся.
В следующую ночь на заводе, во время смены, вышел я, пардон, в туалет и заметил с недоумением, что самый кончик моего нежного, но вполне доказавшего свою состоятельность и выносливость инструмента опух и красный. И какое-то неудобство внутри ощущается. Словно что-то мешает. И даже немножко больно, когда это самое, «по-маленькому»… Странно, подумал я. В чем дело? Может грязь какая-то случайно попала – на заводе ведь полно грязи: железная стружка, опилки, масло, эмульсия… Стоя потом за станком, я ощутил, что там, внизу у меня, как будто даже и выделяется что-то. Пошел в туалет, посмотрел. Да, действительно. Муть какая-то. Что такое? Может быть, в ту ночь великолепную просто слегка натер? С непривычки-то…
К утру не прошло. И к вечеру на другой день тоже. Даже плавки пришлось надеть вместо трусов, чтобы не телепалось и не прилипало. Все равно больно, не помогло.
Вообще-то я читал, что если это «то самое» («полторы окружности» из анекдота: площадь одной окружности это сколько? – Два пи-эр… – А полторы если, то сколько будет? То-то…) – так вот если это оно, то как раз и проявляется день на второй, на третий. Неужели?! В эту следующую ночь стало не лучше, а хуже. Сделать «по-маленькому» и вовсе мучительно…
И утром после смены я направился в поликлинику нашу районную – знал, что есть там «кожное отделение».
Полный, высокий, средних лет мужчина в белом халате – врач-кожник – глянул, пальцем провел по головке, понюхал и велел мне помочиться в банку. А сам, вымыв с мылом палец, сел писать «историю болезни». Ему уже было все ясно.
То, что я с трудом и болью выдавил из себя в банку, было мутным, там плавали какие-то нити, хлопья. Врач глянул лишь мельком и велел вылить в раковину.
– Что у меня? – не очень-то бодрым голосом спросил я.
– Триппер, что, – сердито сказал он и добавил: – Руки вымой как следует. Глаза не трогай, смотри, а то и туда перейдет. С кем последнее сношение было? Когда? Давай-давай, говори, а то лечить не буду. Так уйдешь. И в милицию сведения передам. Ее все равно найдут, учти, но пока искать будут, она других заразит, имей в виду.
Адреса ее я не знал. Телефона тоже. Но торжественно пообещал, что как только она позвонит – а она завтра должна звонить, сегодня четверг, – я встречусь с ней и приведу сюда, непременно. Понимаю же, как это важно.
– Ладно, смотри, – сказал врач. – Обманешь – тебе ж хуже будет. И другим, повторяю, учти. А теперь спускай штаны и трусы тоже, давай-давай, и сюда вот ложись на живот, задницу свою подставляй. Удовольствие получил, теперь расплачивайся…
Укол, потом еще унизительная процедура – пальцем в попу…
Рая позвонила, как обещала. Пришла. Был конец дня, я быстро объяснил ей все, и она тотчас согласилась идти вместе к врачу.
– Ну ведь как чувствовала! – сокрушалась она по дороге. – Как чувствовала, что он такой, по поведению чувствовала…
– Кто? – спросил я.
– Да этот, как раз перед тобой. Дурак. То ли Миша, то ли Гриша, я даже имени толком не помню. Прямо в парадном, стоя. Он после магазина меня провожал, после смены… Ну не хотела же, как чувствовала! Дура я. Поддалась. Ты уж извини…
К врачу мы не успели, прием закончился. Она торжественно пообещала, что пойдет в свою поликлинику, обязательно!
И исчезла на какое-то время – не звонила и не приходила.
Минуло что-то около месяца, меня вылечили окончательно, хотя врач сказал, что я не должен «вступать в половую связь» полгода, как минимум. За что я наказан, я так и не понял. Только потом, потом… Но это – потом.
Опять приехал Арон и попросил пожить у меня несколько месяцев. Однажды я пришел с завода после дневной смены, и Арон дал мне записку. Приходил следователь из милиции, оставил записку и просил обязательно зайти. Я зашел.
Разыскивали ее. Знали, что она у меня бывала. Оказывается, она заразила не только меня, а в кожном диспансере так и не появлялась. Кроме того, как сказал следователь, обвиняли ее в воровстве.
– У вас никакие вещи не пропадали? – спросил он меня.
– Нет, что вы. Да я вообще уверен, что она не…
– Никогда ни в чем нельзя быть уверенным до конца, вы уж мне-то поверьте, – сказал он и посмотрел на меня печально. – Никогда и ни в чем. А вы что же, хорошего мнения о ней?
– Да, хорошего. Хотя и случилось это у нас, но… Она как-то говорила, что живет с бабушкой, отца-матери нет как будто…
– Да, у нее дома беда. Отца ведь вообще не было официально, мать спилась. С бабушкой жили вдвоем, в бараке. Потом по мужикам стала болтаться – девка красивая. Ну, вот и… Законный финал. Жалко, а судить-то, наверное, будут. Она ведь не одного тебя заразила. И вещи брала.
– И многих заразила? – спросил я, судорожно глотнув.
– Восьмерых, включая тебя, наверняка. А может и больше. Ну, ладно, иди. Если что, вызовем. Подпиши вот здесь…
Меня так и не вызывали.
С тех пор я больше никогда не видел ее. И ничего о ней не слышал.
Вот такой была вторая женщина в моей жизни. Но все равно я испытываю к ней – благодарность. Ну, и сочувствие, разумеется. Куда ж деваться?