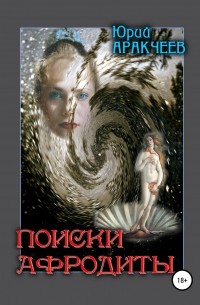Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Она
Сны – особенно после рыбной ловли на свежем воздухе – были порой прекрасны. Вот один.
Белое, светящееся девичье тело. Кто это? «Нимфа» Ставассера, ожившая, теплая? «Купальщица»? Или… может быть… мама? Лица не разглядеть, оно светится ослепительно. Задыхаясь от величайшего поклонения, медленно, осторожно протягиваю руку. И вдруг касаюсь… груди… нежной, округлой, божественной. Словно из светящегося теплого белейшего пуха. В горле ком, перехватывает дыхание, сердце просто выпрыгивает…
И я просыпаюсь в слезах восторга, испытывая, конечно же, острую, сладчайшую, мгновенную, как вспышка, разрядку.
Блаженное тепло разливается по всему телу, я словно в ладони Бога. В памяти (надолго!) сияющее женское лицо и – две округлых, божественно белых (с нежно розовыми кружками сосков) груди, к одной из которых я прикоснулся. Не в жизни, увы, не в реальности… Почему же все это еще так далеко от меня? Будет ли когда-нибудь? Далекое, сияющее, недоступное… А ведь мне уже… Мне пятнадцать.
Почему Бог предостерегал Адама от плодов с древа познания добра и зла? – думаю теперь с печалью. Потому что жалел Адама. Он, Бог, знал, что желающему знать будет трудно: у людей слишком плохо с любовью.
Я понял: мир задыхается без любви. Горечь – от того, что не хватает любви. Скука, преступления – от того только, что нет любви. И даже войны. И революции. Мир природы скреплен любовью, рожден любовью, но не нашей, человеческой, увы. Природной, изначальной, Божеской. Любовь – та энергия, которая питает жизнь, не дает ей погибнуть от ненависти незнания. Бог (Природа) безусловно любит нас всех, все живое, иначе не было бы на земле таких дивных растений, такого потрясающего разнообразия живых существ. Мы же не умеем любить, не хотим учиться. И мы – боимся. Страх и лень – вот что губит, это я понимаю все явственнее. Мы боимся любви, потому что она – ответственность. Соединять секс с любовью – ответственно! Не выплескивать великую энергию просто так, от бессилия, а – искать, неустанно искать предмет любви, родственное тело и душу, и – находить, пусть даже порой ошибаясь – вот достойная человека миссия. А мы сплошь да рядом уходим. Мы боимся жизни, боимся любви, потому что для того, чтобы жить и любить достойно, надо быть мужественными, необходимо учиться. А мы ленивы. Мы неблагодарные, тупые, ленивые и трусливые дети. Мы упорно заставляем себя ненавидеть то, что на самом деле пылко и тайно любим. Потому что главное наше чувство – страх.
Из дневника:
«28 октября, воскресенье.
Вчера было комсомольское собрание совместно с 9 кл. женской школы. Я был председателем президиума. Вел себя вполне смело за председательским столом. Надо сказать, что я за последнее время совершенно переменился в отношении к девочкам. Почти не стесняюсь их, веду себя вполне нормально. Надо сказать, что в этом я многим обязан соседу Валерке, благодаря которому произошла эта перемена.
Когда я был председателем президиума и вел собрание, я посмотрел всех девочек и теперь имею некоторое представление об их классе. Человека 3-4 мне понравились, и за кем-нибудь я постараюсь стрельнуть на вечере 1-го ноября. С одной мы уже познакомились (Левка, Витька и я), и она нам нравится. Звать ее – Алла, фамилия – Румянцева. Говорят, она первая красавица «женской» школы…».
Да, помню, помню то радостное ощущение праздника, удачи, веселое волнение и… огромные, очень живые, смеющиеся, магические глаза девочки, сидящей на первой парте, прямо передо мной, ее четкие темные брови, розовые нежные губы, светлые золотистые волосы с тонкими завитками около лба и вокруг белых, аккуратно выточенных, ну просто ювелирных раковинок ушей.
Самое удивительное, что она обратила на меня внимание! Она так понравилась мне, что трудно было поверить, будто я – беспомощный в «женском вопросе», неопытный, довольно плохо, с моей, болезненно ранимой точки зрения одетый, могу ее заинтересовать. Что ей до моей хорошей успеваемости по школьным предметам и до того, что я член комитета комсомола школы и веду, вот, собрание! А вот ведь… Даже в своем дневнике стеснялся написать, как на самом деле она мне понравилась…
Вскоре после этого «совместного комсомольского собрания» состоялся «совместный праздничный вечер», посвященный, естественно, годовщине Великой Октябрьской.
Танцы, игры. «Почта». Пригласить Аллу на танец я не решаюсь, но письмо-записку, конечно, пишу. У меня номер 56, у нее – 24 (и сейчас помню). В записке моей что-то наподобие: «Когда можно с Вами поговорить?» Вижу, как девочка-почтальон передает ей записку. Ответа нет. Стою у какой-то колонны, делаю веселый вид, смеюсь и болтаю о чем-то с приятелями. Ребят-то приятелей у меня, как уже говорил, много… Вечер короткий – была «торжественная часть», самодеятельность, а на игры и танцы отпущено совсем чуть-чуть, около часа. Ответа нет, увы, почтальон проходит мимо, не замечая моего 56-го номера, приколотого на грудь. Увы.
И вдруг в самом конце вечера почтальон – симпатичная девочка с сумкой и в шапочке – улыбается мне и протягивает записку: «От 24-го 56-му. Позвони мне по телефону с 3-х до 6-ти часов К-7-23-79. Алла.» (И это помню, даже номер телефона…).
Я в полном смысле слова, кажется, был недалек от того, чтобы взлететь: грудь словно наполнилась водородом, и я – будто воздушный шарик – не чую ног под собой, когда иду в раздевалку. Даже не подхожу к Алле, чтобы какой-нибудь своей глупостью не нарушить величайшего счастья момента. Мы, кажется, только улыбаемся друг другу на расстоянии. Неужели такое возможно?…
Прошло несколько сумасшедших, совершенно сумбурных дней – во мне происходили неведомые процессы, – пролетел праздник 7-го ноября, который мы справляли в компании, где была Алла: годовщина Великой Октябрьской была нам, разумеется, пофигу, но – предлог! За Аллой неотступно увивался мой одноклассник Эдик – невысокий, наглый, навязчивый паренек, всерьез соперничать с ним казалось мне ниже моего достоинства: я отличник, староста класса, авторитетный парень среди ребят, и Алла, по слухам, весьма симпатизирует мне – что же она не отшивает его немедленно?! – но… Может быть по глупости, а может быть нарочно, чтобы вызвать ревность во мне, Алла не делала шагов мне навстречу и почему-то никак не давала решительный отлуп Эдику… В результате все получилось неинтересно, тускло, бездарно – я прямо-таки коченел от ревности, от любви к ней, но изо всех сил старался этого не показывать. В компании все разладилось, стало неуютно, скучно…
Пролетели предновогодние дни – Алла, наконец-то, Эдика «бортанула». Что реабилитировало ее отчасти в моих глазах… И вот: Новогодний праздник! Мы собрались на квартире у Аллы, где они живут с мамой и бабушкой.
Компания у нас небольшая, человек шесть или восемь, в углу комнаты – новогодняя елка, с потолка свисают кусочки ваты на ниточках – «снег». Мы пьем вкусное, не слишком крепкое вино, танцуем – наконец-то я танцую с Аллой, и это так приятно, что трудно и передать, хотя танцуем мы на расстоянии, не прикасаясь, совершенно «по-пионерски». Но после полуночи, уже в Новом году, мы с Аллой вдруг оказываемся в маленькой комнатке, где стоит большая кровать, на которой сейчас спит Аллкина подруга, Зоя. Мы сидим с Аллой на этой кровати. В комнатке темно, только чуть-чуть пробивается свет из дверной щели.
Настал, кажется, наш звездный миг, еще ни разу мы с ней не были вот так вдвоем, да еще так близко, да еще на Новый год и в легком хмелю, да в комнатке, скрытой от посторонних глаз (Зоя не в счет, потому что она явно спит), да еще почти в полном спасительном мраке. Я только вижу смутно ее прекрасное, напряженное и задумчивое лицо сбоку и блеск глаз и ощущаю тонкий аромат духов, волос, ощущаю ее тепло… Но…
Да, вот ведь какое дело. Я сижу словно парализованный, молчаливый и невменяемый истукан. Тело мое бесчувственно и неподвижно. Анестезия.
О, Боже, если бы хоть немного, хоть чуть-чуть внушить мне тогда то, что знаю сейчас! Ну пусть даже не знания, пусть хотя бы умения расслабляться, отключаться, быть свободным, естественным, не прислушиваться постоянно к себе, не анализировать, как компьютер, а просто – чувствовать. И смелым быть хоть чуть-чуть. Да нет, ну, хотя бы легкомысленным, пусть даже глупым – и то бы сгодилось!
И тогда… О, вот я бережно, нежно обнимаю ее, прикасаюсь щекой к ее горячей щечке и к завиткам золотистых волос на виске над очаровательным белым ушком и ощущаю все ее милое, родное уже, близкое мне естество. Говорю какие-то глупости и целую ее в полуоткрытые навстречу мне горячие губы, и она тотчас вся приникает ко мне, ее губы влажны, они сливаются с моими – Господи, ведь это такое счастье… Теперь – увы, только теперь! – я понимаю, что это было вполне возможно, даже в те годы, когда – как принято считать, – в СССР секса не было… Наш общий рай был рядом, один лишь шаг, кажется, до него… Ну, пусть даже она смеялась бы при этом, а вовсе не стонала и не дышала взволнованно – пусть! Запомнила бы ведь, оценила бы все равно! Ведь мои руки, все мое тело, все естество – и душа, разумеется, тоже, душа, если уж на то пошло, в первую очередь! – все стремилось к ней… А ее, уверен, – ко мне, ясно же, иначе она бы не… И вот я уже кладу руку на ее тугую и нежную грудь, потом отстраняюсь на минуту, расстегиваю пуговицы на ее блузке…
Но стоп. Ведь это в воображении. Теперь! А тогда…
Ну, ладно, ну, пусть не совсем даже так. Пусть я слишком расфантазировался. Пусть менее современно и более сдержанно – в духе того времени. Целомудренно, романтично, сопливо. Без полуоткрытых навстречу губ и «она тотчас вся приникает ко мне». Пусть лишь мое легкое платоническое объятие, пусть летучие полудетские поцелуи, пусть ее смущенное обязательное «не надо», «пусти», «как тебе не стыдно» и легкое сдерживание моих настойчивых рук – хоть так! Ведь не зря же, в конце-то концов, она меня пригласила на этот праздник, не зря сидит рядом и не уходит – блестят глаза, дыхание затаенное и неспокойное – она явно ждет! А все многочисленные прежние взгляды, кокетство, знаки внимания, многозначительные улыбки, телефонные звонки, отшитый Эдик?!
– Эй ты, парень, опомнись! – отчаянно кричу я теперь, отсюда, через годы и годы. – Вся жизнь впереди, еще всякое будет, не бойся! Пробуй, дерзай – не все получается сразу, не пугайся отказа! Бог с ней, то ли еще будет, но попробовать-то ведь надо! Иначе все равно ведь ее потеряешь!
Увы, не слышит «тот парень». Сидит, как столб. Клинический ступор.
Да, граждане, тогда и в воображении я не мог себе ничего такого представить. Мгновенный огненный вихрь подхватывал меня всего, целиком, при одной только мысли… Даже если я как будто только слегка обнимаю за плечи и прикасаюсь щекой к щеке… Нет. Сердце выпрыгивало.
Кричу опять отсюда, сейчас:
– Прости, милая девочка, я же понимаю, что ты все сделала, чтобы я не был такой дурак, я так любил тебя, но я же, понимаешь, не знал, что делать, я ведь ни разу в жизни тогда еще не целовался даже – ни разу! – хотя и выпендривался перед ребятами, у меня просто руки не поднимались. Ты, понимаешь ли, слишком нравилась мне тогда, слишком!
Это теперь.
– Да я понимаю, что нужно хоть руку ей на плечи положить, что ли, ну или хоть придвинуться к ней поближе для начала, это я понимаю, – отвечает мне оттуда «он», пытаясь отчаянно «сохранить лицо». – Но вдруг она не позволит, вдруг отстранится и посмотрит этак с презрением – стыд-то какой… И потом…
– Да не думай ты обо всем таком сейчас, попробуй хоть, бесстрашно и смело! Скажи, скажи ей, что руки не поднимаются, что любишь, скажи честно языком, если не можешь руками! Отдайся чувствам!
– Да, но… А вдруг Зойка? Вдруг она проснется и услышит, как Аллка говорит что-то обидное для меня, унизительное, вдруг?
– Идиот. Какое дело Зойке? Да она же спит без задних ног, пьяная и усталая. А проснется так вида не покажет, ей же интересно, зачем же… Давай! Руками не можешь, так хоть словами. Ну!
– Да… И так считали, что Эдька Аллке тоже нравится, она же с ним вон как кокетничала и встречалась, говорят… И потом одежда у меня тоже. И на коньках не умею. И дома черт знает что, бардак, денег у нас с сестрой никогда не бывает – а если Аллка в кино захочет или еще куда-нибудь – на каток, например, или в кафе-мороженое… Она вон какая красивая и дома у нее все хорошо, не то, что у меня…
– Ну и дурак же! Причем тут все это? Кретин. Ничтожество. Сирота верхне-радищевская. Ты что, не понимаешь, что она нарочно сюда на кровать села, она же ждет, не видишь, что ли! Причем сейчас вся твоя ахинея – она женщина, а ты мужчина, вот что сейчас важно, это самое главное, Адам и Ева, понимаешь ты, нет? Трус ты и сопляк. Онанист несчастный.
– С-согласен, что трус. С-сопляк, согласен… Ну, не могу и все. Не могу. Не умею…
– Так учиться надо! Бестолковая твоя голова, вот сейчас и надо учиться, на практике, идиот. Ну-ка, руку ей на плечо, живо! И щекой смело вперед – наклоняй голову, приближайся к ней, дотрагивайся, прислоняйся! Трогай, трогай! Осторожно только… И ногой, коленом давай, нежно так, потихоньку.
– Н-нет. Не могу. Рука не поднимается просто. И шея не сгибается. Не могу. Ноги тоже не двигаются никак. Язык во рту слипся, и в горле першит, слюни текут почему-то, а глотать боюсь, услышит…
– Ох, и дурак же. Ведь потеряешь ее, кретин, все равно ведь потеряешь – так хоть попробуй, еще раз прошу! Не попробуешь – потеряешь точно, а так ведь еще неизвестно, понимаешь ты, нет?! Вдруг получится?
– Н…не могу. Ну не могу, и все. Ну не могу просто. Извините меня. Не могу…
Сопли, слюни, выделения кауперовых желез в мокрых уже трусах. Да и у нее, небось, тоже. Из-за тебя, дурака. Стыд и срам. Обидел девочку, недоносок. Тьфу.
Так и просидели какое-то время. А потом то ли кто-то кого-то из большой комнаты позвал, то ли кто-то из нас сам встал и ушел. Увы.