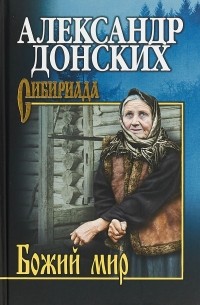Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
6. Снова тучи. Снова солнце
Всё ещё лето, всё ещё каникулы – чудесно, прекрасно! И столько солнца, и столько тепла, и столько игр и друзей!
Как-то раз я с мальчишками пошёл на Еланку. Там мы частенько и рыбачили, и купались, и резвились в играх и забавах. Путь пролегал через лесозавод. Проходили мимо погрузки. Пыхтел и фыркал тепловоз, носились юркие автопогрузчики. Я подбежал к отцу, обнял его за тугую обнажённую талию. Он мне улыбнулся, слегка шевельнув усом, на котором сверкали капли пота. Работал он не спеша, со своей обычной деловитой богатырской развалкой. На его тугом загорелом теле шишками взбухали, каменея, мускулы, когда он поднимал доски и забрасывал их в вагон. Грузчики и мальчишки посматривали на моего папку и, думаю, любовались им. Я был горд.
Сверкая пятками, мои друзья пустились наперегонки к реке. Я тоже хотел было рвануть, да увидел тётю Клаву; она работала тут же на погрузке учётчиком. Её привлекательное молодое лицо было освещено улыбкой и не казалось смуглым и смятым. Она подошла к моему отцу, линейкой хлопнула его по плечу и с дерзкой завлекательностью засмеялась в его глаза. Он смущённо, но и жёстко усмехнулся, что-то сказал с подмигом тёте Клаве, и она залилась смехом громче, изящно откидывая свои великолепные воронёно-чёрные волосы назад. Я зачем-то шмыгнул за угол бытовки, в которую вошли тётя Клава и мой отец, притаился у растворённого оконца.
– Чудишь, Клавка, ой, чудишь, – услышал я насмешливый, но омягчевший голос отца.
– Не брани меня – лучше поцелуй-кась.
– А ну тебя!
Моё сердце задрожало, в горле вспухла комком горечь; стало тяжело дышать.
– Дура, у меня же семья.
– Целуй ещё раз! Ну!..
В голову кинулся жар, однако я весь дрожал как в ознобе на морозе. В глазах помутилось. Я, будто с испугу, припустил за ребятами, запнулся, здорово тукнулся о землю, но боли физической не услышал. Спрятавшись в какой-то заросшей бурьяном канаве, заплакал, завыл, заскулил. Однако чуть погодя стал себя успокаивать, уводить от тягостных чувств: «Я плохо подумал о папке, – как я мог, как я мог?! Он такой хороший, лучший на свете папка. Что такое он совершил? Поцеловал тётю Клаву. Что же тут такого дурного?..» Так я говорил, чтобы моё растревоженное сердце снова заполнилось покоем и радостью, чтобы жизнь стала прежней – лёгкой, весёлой, беззаботной. Мне не хотелось расставаться с детством!
Я догнал ребят, и в их пчелином неугомонном кругу мало-помалу позабывалось, пригашалось моё горе. Очередная тучка снова пролетела – да, да, конечно, почти пролетела! – лишь слегка затронув меня.
Нас было пятеро – я, Арап, Синя, братья Олега и Саня Петровских. Концы удилищ вразнобой и весело скакали за нашими спинами. К голым ступням липла подсыхавшая грязь – ночью отхлестал по земле дождь, а теперь – столько солнца с ласкающим жарким ветерком! Мы шумно, азартно разговаривали, перебивая друг друга: «А вот я!..», «А у меня!..», «Да я тебя!..», «Я могу ещё и не то!..», «Ври, ври, завираша!..», «Точно вам говорю, пацаны!..» Где хвастовство, там и тщеславие. Оно в нас точно бы кипело, выхлёстываясь наружу. Где хвастовство и тщеславие, там непременно проскользнёт и ложь.
Саня Петровских молчал. Он был в нашей компании самый старший и несловоохотливый, будто немой. На его по-азиатски чернявом, широкоскулом лице почти всегда теплилась полуулыбка, узкие монгольские глаза смотрели на собеседника участливо и умно, а на девушек – по-стыдливому мимо, и вечно он перед ними пунцовел и говорил им, теряясь, какую-нибудь несуразицу. Нам, его друзьям, бывало за него неловко и совестно: такой здоровый и крепкий, а перед девочками – овечка овечкой.
Саня нередко глубоко задумывался, казалось, без причины. Он был поэтом. И его душа мне представлялась синей, как небо. Что за цвет синий? В нём печаль и радость, мудрость и легкомыслие, волнение и безмятежность.
Однажды, помню, Саня подозвал меня:
– Слушай, Серьга, сделаешь одно доброе дело? Дам конфет.
– Сделаю! – Я для него всегда готов был совершить хоть сто дел, ничего не требуя взамен.
– Вот конверт… ты его… – Саня зарумянился. – Ты… понимаешь?.. незаметно подкинь своей сестре Любе. Но только чтобы она не видела и не узнала от кого.
– Сделаю! Давай! – Я схватил конверт и побежал домой; трататакал, воображая себя едущим на мотоцикле.
– Стой! Погоди! – Саня подбежал ко мне. – Дай честное слово, что она ничего не узнает, а ты не вскроешь конверт.
– Да на́ тебе: даю и ещё раз даю тебе честное слово, самое из честнейших слов, – с великим неудовольствием пробурчал я, оскорбляясь его недоверчивостью.
Конверт я тишком подсунул в куртку Любы. Вечером она сидела над голубеньким листком из этого конверта, накручивая на палец завитые бигуди локоны и с задумчивой растерянностью усмехаясь. Я же возвышенно размышлял: «Кончат они школу и поженятся. Примчусь на их свадьбу на белом коне и подарю… и подарю… – В раздумье я закатил глаза к потолку. – И подарю мешок, нет, два, шоколадных конфет и… и! корову. Появятся у Любы и Сани дети, – а без молока младенцам никак нельзя. Интересно, а, когда я женюсь, – у меня будут дети?» – Этот неожиданный вопрос меня всецело захватил, и я моментально забыл о Любе и её предполагаемой свадьбе.
Тот голубенький листок, к слову, однажды случайно попал в мои руки; на нём было написано стихотворение, и мне хорошо запомнилось на всю жизнь несколько замечательных, на мой взгляд, строк:
Но никакой, следует сказать, любви взаимной между Саней и Любой не получилось, однако – как любил, как боготворил!
Итак, мы поднялись на взгорок – брызнула в наши глаза переливающейся синевой Еланка. Пахнуло рыбой, мокрыми наваленными на берегу брёвнами, еле уловимо вздрагивающей листвой берёз. Дымчатые вербы смотрелись в воду, быть может, любовались собой. На той стороне реки прозрачно курился сосновый лес. Вдали, по берегам уже Ангары, в которую впадала Еланка, – тёмно-зелёная, дремлющая на скалистых сопках, видимо, разморенная жаром, тайга.
Призакрыв веки, я сквозь ресницы видел рассыпанные по реке мириады роскошно лучащихся бликов и, очарованный, поджидал – вот-вот из воды вынырнет что-нибудь этакое сказочное, удивительное, прекрасное. Часто ловилась рыба почему-то только лишь у Сани. А мы, горбившись, сидели возле удочек и скучали; Арап так даже зевал, шутовски крестил рот и бросал камни в воробьёв. Олега поминутно, нервно вытаскивал леску, не дожидаясь, когда клюнет. На прибрежной мели метались мальки, и Олега, нарушая все правила рыбалки, стал, как умалишённый, хватать их. Мы, точно по приказу, кинулись выделывать то же самое. Хохотали и кричали. Саня, не отрывая глаз от своего поплавка, усмехался:
– Вот же дураки!
Вспугнутые рыбки ушли в глубину, а мы давай брызгаться и толкаться. Умаялись, вспотели, растянулись на траве и притихли.
На стебель куста сел жук. Мне были хорошо видны его маленькие глазки и красная глянцевитая спинка. Я поднял руку, чтобы погладить жука, но он в мгновение ока исчез, будто его и не было. «Ну и лети. А я понюхаю жаро́к – маленькое солнышко». Во мне всегда рождается ощущение, что жарки греют и источают свет. Я бережно разомкнул нежные, начавшие увядать лепестки – две букашки испуганно устремились на мою ладонь. «Куда же вы? Я не хотел вам мешать!» С трудом удалось загнать их, обезумевших, на прежнее место. Из-за Ангары наплывали громадные, как корабли, светоносно-белые облака; они были чарующе прекрасны. В моей душе рождалось какое-то тихое, робкое чувство любви – любви ко всему, что я видел, что меня окружало, что наполняло моё детство, мою жизнь счастьем и покоем. И мне не хотелось расставаться с этим чувством.
«Ага! кто там такой?» Метрах в трёх от меня столбиком замер суслик. Его пшенично-серая шёрстка лоснилась, а хвост слегка вздрагивал. Стоял, хитрец, на задних лапках и не шевелился. Потом стремительным движением откусил травинку и принялся с аппетитом уминать её. Снова отчего-то застыл, лишь едва заметно шевелился его нос и вздрагивал хвост.
Отлежав живот и натрудив верчением шею, я вынужден был повернуться на бок. А поблизости за кустом шиповника заворочался Синя. Меня привлекло его странное поведение: он, привстав, осмотрелся, сунул руку в карман своих брюк и затолкал в рот целую горсть мелких конфет. Ещё раз оглядевшись и, видимо, решив, что никто ничего не видел, прилёг. Раздался чмокающий похруст. Мне стало неприятно. Снова что-то нарушилось и всколыхнулось в моей душе.
Арап, нарочито позёвывая, сказал:
– Синя, сорок семь – делим всем?
– А у меня ничего нету, – поспешно отвернулся Синя от подкатившегося к нему Арапа. Подавился, бедняга. Откашливался, багровея и утирая слёзы.
– Пошарим в карманах? – не отставал Арап.
– Правду говорю – пусто, – мычал Синевский.
Я, Олега и Саня посмеивались, наблюдая эту забавную сценку, но нам было так неловко, будто мы друг у друга что-то украли и друг друга же уличили. И посмеивались мы сдержанно, скорее хмуро.
– Завирай, завирай, завируша!
– Ты, Арап, что – Фома неверующий? – злился и вертелся Синя.
– Ну?!
– Гну!
– А давай-кась, Лёха, пошарим.
– Пошёл вон.
– Не ломайся. – И, схватив Синю за руки, заорал: – Пацаны, налетай на жмота!
Я и Олега проворно выгребли из Сининых карманов конфеты.
– Ой, точно, парни, есть, – блеюще похихикивал наш толстощёкенький Синя. – А я и не знал. Ешьте, мне не жалко. Я сегодня добрый…
О рыбалке мы совсем позабыли. Дурачились, спорили, о чём в голову взбредёт, усердствуя перекричать друг друга. Саня рыбачил в одиночестве или же подолгу глядел в небо, которое было усыпано мелкими перистыми облачками, словно бы кто-то там, в высях, распотрошил подушку. А из-за ангарских сопок к ним всё ближе и ходче подкатывались, как подкрадывались, объёмистые сбитые облака. Птицы стали тревожно метаться – казалось, блуждали. В стремительном полёте бросались к воде. Деревья застыли и смолкли, – не прислушивались ли?
Тем временем неугомонный Арап придумал очередную забаву: предложил посостязаться, кто резвее наперегонки проскачет до отметки на одной ноге, при этом вперёд – на пяточках, а назад – на носочках. Вот это будет потеха! Мы все, кроме Олеги, бурно изъявили согласие. Олега же, неодобрительно съёжив пропечённо-красный нос, предложил свою игру, да мы не поддержали его. Незамедлительно принялись галопировать. Властный, капризный Олега, любивший, чтобы всё делалось по его воле и желанию, притворился, будто бы сильно заинтересован пойманной стрекозой и наше новое развлечение ужасно как скучно ему.
Невдалеке чинил забор возле своего покривившегося домка сгорбленный дед. Он, посасывая погасшую трубку, трудился неторопливо, с частыми остановками. Его морщинистое серое, как кора, лицо, казалось, ничего не выражало, кроме спокойствия и отрешённости. Он иногда поднимал коричневатую худую руку к глазам, спрятанным в морщинах, и всматривался в даль. Мне совершенно не верилось, что он был когда-то таким же маленьким, как мы, и так же мог прыгать, бегать, резвиться. Мне в детстве представлялось, что старики старыми и появляются на свет, и не верилось, что я когда-нибудь состарюсь, одряхлею, стану таким же мешкотным и безмятежным, как этот дедушка.
– Вы скачи́те, скачи́те… как козлы, – сказал нам Олега, даже не взглядывая в нашу сторону, – а я буду играть в пирата.
– В кого, в кого?!
– В пи-ра-та! Да вы скачи́те, скачи́те. Чего встали-то, точно столбы? – Олега, насвистывая и подпрыгивая, направился к плоту, который кем-то был привязан к стволу ивы.
Все мы, кроме Сани, побежали за ним:
– И мы с тобой!
– Вот здорово – пираты! – тотчас воспламенила наше воображение эта новая забава.
– Я уж как-нибудь один, без вас. Вам же не нравятся мои игры. Вот и прыгайте! – И Олега стал бодренько посвистывать, отвязывая верёвку от ствола.
– Да ладно тебе, Олега! Нашёл из-за чего дуться, – уже повязывал Арап на свою голову рубашку чалмой.
Олега презрительно морщил губы, глубокомысленно потирал пальцем выпуклый большой лоб, как бы обмозговывая: брать нас в свою игру или нет?
– Так и быть: играйте со мной, – зевнул Олега. Он словно бы непереносимо, болезненно досадовал, что вынужден-таки согласиться. – Поплывём на Зелёный остров, – зазвучал его голос повелительно, но и по-командирски строго, красиво. Да, он был, конечно, вожак, полководец! – Там стойбище индейцев. У них уйма золота и бриллиантов. Приготовить мушкеты: будет жаркий бой!
«Остров!», «Индейцы!», «Золото!», «Бриллианты!», «Мушкеты!», «Бой!» – как это прекрасно! Эти слова уже раздавались самой великолепной мелодией в самом моём сердце. Мы, сбиваясь с ног, одним духом собрались в поход. У каждого на голове появилась чалма с пером или веткой. Арап повязал левый глаз какой-то грязной лохмотиной и, сам чёрный, шоколадный, свирепо оскаливал зубы, плотоядно сверкая ими. Длинную тонкую корягу я вообразил мушкетом, свои чёрные брюки приспособил под флаг на плоту.
Саня снисходительно усмехался, наблюдая за нашими приготовлениями. Когда же мы отчалили от берега и решительно погребли к стремнине, Санин рот широко открылся, и улыбка, должно быть, уползла в него.
– Э-э-э! вы что, дурачьё, серьёзно, что ли, на Зелёный?
– А ты как думал? – задиристо ответил его брат.
– Ведь с минуты на минуту ахнет гроза. Глядите, милюзга!
Мы нехотя глянули на приангарские сопки. Лиловая, с землисто-серым провисшим брюхом туча кралась, как бы отталкивая от себя те, восхищавшие меня недавно, огромные белоснежные облака, по тускнущему небу, и чудилось, что она всасывала в своё необъятное чрево и его голубое полотнище, и стайки мелких беззаботных облачков. Но она находилась ещё там где-то, вдали.
– Ерунда, – удало, как саблей, отмахнул рукой наш бестрепетный вожак Олега. – Мы успеем на остров до дождя. А там – шалаш отличный. Вечером, Саня, вернёмся.
– А вдруг дождь надолго зарядит? – тихонько спросил у меня Синя.
– Не зарядит! – мужественно нахмурился я. Бог ведает, почему я был уверен! – Ага, струсил!
– Ещё чего?! – вскинулся тучный Синя и стал грести руками, помогая Арапу, который захватывал тугую волну широкой доской.
– Хотя бы и зарядит, – молодцевато сказал Олега, – что ж из того? Мы ведь теперь пираты, Синя! А в дождь легче напасть на индейцев.
– Вернитесь! – не унимался Саня. Он спешно сматывал удочки. – Переждём грозу у деда, а потом поплывём хоть к чёрту на кулички.
– Е-рун-да, – снова отмахнулся бравый Олега.
– Коню понятно – ерунда.
– Будет тебе, Саня, паниковать.
– Сплаваем на Зелёный и вернёмся. Не паникуй.
– Я вам дам, ерунда. Вернитесь, кому велел, милюзга сопливая!
– Саня, – критично сощурился я, досадуя на него, – что ты за нас печёшься, как за маленьких? Мы нисколечко не боимся твоей грозы.
Я стоял на плоту – вернее плотике, который состоял из трёх шатких брёвнышек, – с важностью, широко расставив ноги, приподняв плечи и выставив нижнюю губу. Я хотел, чтобы меня увидела Ольга или сёстры. Тщеславие распухало во мне, услужливое воображение явило восхищённое лицо моей очаровательной подружки, а следом – гордых за меня родителей моих и сестёр. Воображались возгласы приветствия какой-то толпы с берега, рисовались в мыслях мои героические поступки.
Тучу прожёг безразмерный огненный бич; может, небесный пастух-великан гнал её куда-то. В небе громоподобно захрустело – мерещилось, будто внутри тучи стало что-то, проглоченное, перемалываться. На нас дохнуло сырым пещерным холодом. И вдруг – чудовищно оглушительный грохот, как будто покатилась с горы громадная каменная глыба. Я сжался и покосился на берег: «Ой, мама!.. Далеко-о-о!» Коленки задрожали и подломились, а в животе отчего-то заурчало и опасно ослабло.
По берегу лохмато взнялись бороды пыли. Деревья сначала сильно нагнулись, потом дёрнулись назад и гибельно забились. Где-то мрачно и хрипло вскрикнула стая ворон. Чёрно-зелёная вскосмаченная волна кинулась на наш утлый плоток. Река судорожно морщилась и бурлила под тугим лютым ветром.
Арап прекратил грести. Мы все переглянулись и, наверное, готовы были друг другу сказать, что не мешало бы вернуться. Синевский первым попытался направить плот к берегу. Да было уже слишком поздно: стрежень втащил наше судёнышко на середину своей мускулистой спины и быстроного понёс в мутную, пыльную даль.
Снова пронзил тучу огненный бич. Стал крапать студёный дождь. Прошла минута-другая, и он буквально стегал бурлящую воду, мчавшийся на остров плот и нас, прижавшихся друг к другу, до боли в суставах вцепившихся руками в зыбкие, скользкие брёвна.
Саня бежал по берегу, что-то кричал нам, размахивая руками. Его голос, в клочья разрываемый ветром, вяз в густом ливне.
Внезапно под плотом глухо проскребло, и нас, как щепочки, вышвырнуло в воду, – мы врезались в релку. По моим мышцам щекочущим огнём пронёсся страх. Лишь некоторое время спустя я почувствовал, что вода ужасно холодная, если не сказать, ледяная.
– Ма-ам-м-м! – пробулькал я, вынырнув, как поплавок. Хлёстко молотил по волнам ладошками и отчаянно выхватывал ртом спасительно-сладостный воздух. Поймал взглядом товарищей – они протягивали мне руки, стоя по колено в воде. Плот удалялся, исчезая в колеблющихся джунглях ливня.
К острову брели уныло, молчком. Дождь дробно припускал, творя сплошные водяные заросли. Река кипела и пузырилась. Моё тело нещадно гвоздил озноб.
Когда выбрались на берег, меня, казалось, обожгло:
– Мои брюки! – вскрикнул я и побежал к реке. Но сразу одумался.
– Упорхали они, Серёга, – лыбился губастым, синеватым от холода лицом Арап, и все засмеялись, содрогаясь, похоже, единственно от озноба.
Мои брючишки бились под ветром и прощально махали гачами.
– Ну и чёрт с ними, – стучал зубами я, но с трудом сдерживал слёзы отчаяния: «Что скажет мама? Опять огорчу её!»
Вскоре небо подкрасило в унылые грязновато-синие тона, оно выглядело сморщенным, вроде как даже виноватым. Ветер разбойничал в кронах деревьев, сотрясал и взлохмачивал ветви. Мы тряслись в дырявом, наклонившемся под нажимом ветра шалаше, а кое-кто из нас – не будем называть! – всхлипывал. Сверху лило, снизу – лужа и жижица, с боков свирепо, во всю мочь поддувало. Всё было до омерзения мокрым, скользким. Как мы были несчастны! Хотя бы капельку солнечного света дало бы нам небо!
Саня – как мы потом узнали – побежал к деду за лодкой, но она оказалась прохудившейся. Сбегал в Елань за ключом от своей лодки, находившейся ниже острова километра на полтора. Один волочил её против течения; истёр ладони в кровь.
Тяжело дыша, он резко всунул своё разгоревшееся, скуловато-поджатое лицо в шалаш и хрипло выдохнул, как кашлянул:
– У-у, ш-шпана!.. – И, по-мужицки твёрдо ступая, направился к лодке. Мы молчком рассыпанной стайкой щенков поплелись следом.
Выглянуло закатное алое солнце. Да, оно всё же появилось! Всюду заискрилось, засияло. Мир был бодр, чист, красновато обвеян этим кротким светом жизни. Мы снова принялись прыгать, толкаться, брызгаться. Детство было с нами, только на часок-другой оно куда-то словно бы уходило, наверное, по своим неотложным делам. Кто знает?!
Дома в своей тёплой, мягкой, вечно свежей благодаря маме постели я долго не мог уснуть, в голове мельтешили события минувшего дня. Снова мечтал, запоем мечтал. Но мечтал о простом и обычном: во что буду завтра играть с ребятами, что смастерю вместе с папкой, что подарю на день рождения Насте и маме. Неожиданно вспомнил молодое красивое дерзко-смуглое лицо тёти Клавы, папку рядом с ней. Но всё неприятное и досадное хотелось поскорее забыть, чтобы не рассы́палось, как песочный замок, в моей душе лёгкое нежное чувство к отцу. На мою кровать запрыгнули Марыся и Наполеон. Кот по-старчески тихо запел под самым моим ухом. Кошка развалилась у меня в ногах, но я переложил её на подушку и, облобызав обеих, стал засыпать под их тихое мурлыканье. Мне снилось, как я летал на воздушных шарах, потом плавно падал вниз, взмахивая, как птица, руками. По телу ласково скользили струи парного солнечного воздуха.