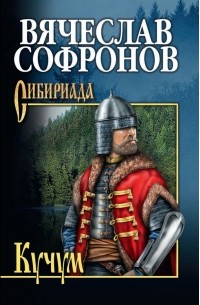Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Блаженство наследующих
Жарким было лето, когда гордые поляки избрали наконец короля Речи Посполитой. После смерти Сигизмунда Августа множество претендентов явилось в державу польскую. Был среди них и брат французского короля – Генрих, занявший было престол, но не знавший ни языка польского, ни обычаев, бежавший обратно в Париж после смерти брата своего и трон французский принявший. Был и Максимилиан – император австрийский. Был и царь московский Иван Васильевич, пожелавший отправить младшего сына Федора воздеть на себя корону польскую и объединить затем две великие славянские державы. Но долги были сборы московские, долги хлопоты, а всех опередил венгерский князь Стефан Баторий, что по первому зову явился в Краков и быстрехонько короновался, оставив с носом и государя московского, и императора германского, и многим другим желающим кукиш показал.
Король польский Стефан Баторий ехал в сопровождении малой охраны из мадьяр к своему замку под Краковом. Он любил ездить верхом, поскольку не так в глаза бросался и рост малый его, и хромота не очень заметна. Еще в детстве пытались украсть его разбойники и продать туркам, приковав на цепь за левую ногу, держали в лесной сторожке. Но сумел Стефан освободиться, сбить цепь, а рана осталась и не заживала до конца дней его. Да еще в юности начались и припадки, после чего впадал он в безумие и не помнил всего, им в те минуты содеянного. Женщины припадочного Стефана не любили, да и он их не особо жаловал. Придворные и то пугались дикого взгляда короля Батория и маленьких, глубоко посаженных глаз на скуластом лице. Верно, правду говорили, будто предки его пришли с далеких северных земель, где едят сырое мясо, запивая кровью звериной. И может, в силу этих древних традиций новый польский король велел всех бродяг и разбойников на дорогах ловить и в котлы с кипящей водой бросать, а мясо охотничьим собакам скармливать.
Изначально поляки хотели женить французского принца Генриха на дочери покойного короля Сигизмунда, да тот, глянув на невесту, которой в ту пору уже полсотни лет накатило, в смущение великое пришел, отнекивался как мог от брака, а потом и вовсе бежал, оставив Анну Ягеллонку и дальше проживать в девичестве. Стефан Баторий и глазом не моргнул, пойдя под венец с невестой на десять лет его старше. Она тут же уехала в Варшаву, а он остался в Кракове, где, впрочем, редко бывал, занятый приготовлениями к войне с московским царем.
Баторий, погруженный в свои думы, не отвечал на приветствия крестьян, снимавших шапки за полсотни шагов и стоявших так, пока он не проедет. Сейчас он думал о том, как избавиться от назойливого Самуила Зборовского, что отчасти помог ему на выборах, но теперь вместе с братом Христофором требовал слишком больших льгот для своего дома. Баторий считал себя солдатом и жизнь вел простую, неустроенную. Разбалованные и разнеженные поляки чуть ли не смеялись ему в лицо, видя незатейливую одежду своего короля, и шутили, что надобно выделить из казны кое-какие средства и приодеть его, а то трудно пастуха отличить от государя великой державы. Но он все терпел до поры до времени, хорошо, впрочем, помня и обиды, и усмешки ясновельможных панов.
Единственным человеком, которого он отличил сразу и выделил из прочих, был шляхтич Ян Замойский. Они изъяснялись на латыни, поскольку король еще плохо знал язык своих подданных. Такие, как Замойский, не обремененные отцовским наследством и высокими титулами, сразу почувствовали в новом короле близкого человека, потянулись к нему, предложили свои шпаги. И он принял с благодарностью молодых шляхтичей, поставив тех на самые важные посты.
Первое, что Баторий сделал после коронации, – отправил грамоты соседним государям, заверяя их в своей любви и дружбе. Те не замедлили прислать ответные послания, поздравив его с коронацией и восшествием на польский престол. Не было только грамоты от московского царя Ивана. А вскоре верные люди передали Баторию, что тот перед послами иностранными насмехался над ним и даже слова бранные говорил о его предках, не признавая Батория равным себе, а сравнивая со своими дворянами, служившими при русском царе на посылках. Нет, Баторий ничем не выдал гнева, но запомнил те слова надолго и поклялся отомстить московитам за неслыханную дерзость, за бесчестие свое, с тех пор и начал подумывать, как проучить тех, отобрав и землю Ливонскую, и те города, что они успели у короля Сигизмунда отвоевать. Он не любил долгих сборов, но к войне готовился тщательно, стараясь предусмотреть любую мелочь, от одежды для своих гусар и до запаса подков для их лошадей. И, заняв в сейме солидную сумму золотых, нанял несколько полков из немцев, шведов и своих земляков-мадьяр. Они-то и объяснят московскому зазнайке Ивану, чье происхождение выше. Может, тогда он поймет, что острая шпага и хороший мушкет уравнивают и короля, и простого солдата. Бог дарует победу не за звание, а за доблесть.
Приехав в замок, он тут же велел позвать своего любимца Замойского, и когда тот вошел, Баторий, не отвечая на приветствие, знаком указал ему на громадную карту, придавленную к столу двумя пистолетами.
– Как считает пан, с чего мы начнем наши военные действия против московитов?
Замойский чуть наморщил лоб, отчего его красивое лицо приобрело грустное выражение, и, подумав, ответил:
– Их армии готовы вновь вторгнуться в Ливонию, а заняв ее, будут угрожать и нашей безопасности.
– Согласен с паном. Я думаю так же, – коротко, как всегда согласился Баторий, – но я вижу, пана что-то смущает.
– Да, – на этот раз без раздумий ответил тот, – черкасские казаки. Они обнаглели до того, что держат в страхе целые воеводства, заставляют наших шляхтичей отдавать им задаром скот, оружие. Тех, кто отказывается, увозят к себе и берут потом баснословный выкуп с родственников. На них нет никакой управы.
– Повесим каждого второго. Четвертуем. Посадим на кол, но заставим вести себя, как должно подданным, и не возмущать спокойствия. Кого мы можем отправить на их обуздание?
– Ходкевича или Сапегу, – поскреб чисто выбритый подбородок Замойский, – они храбрые воины и… мои добрые знакомые.
– Пусть будет так. Напиши им от моего имени и вели прибыть в Краков в ближайшее время.
– Слушаюсь, мой государь. Но у меня есть сомнения…
– Говори. Мне нужно знать все. Я не хочу, чтоб потом выяснилось то, что можно было предвидеть сегодня.
– Казаки сдерживают крымского хана и турок. Если мы уничтожим половину из них, то кто станет защищать наши границы от иноверцев?
– И это легко решить. Тех казаков, что пожелают встать на государственную службу, мы поставим на казенное довольствие, оставив их жить, где и жили ранее. И к тому же я собираюсь отправить большое посольство к турецкому султану, чтобы заключить с ним перемирие на десять лет. Тогда у нас будут развязаны руки для войны с Москвой, и мы не будем бояться удара в спину. Насколько мне известно, турецкий султан будет весьма нам признателен, если мы укоротим жадные руки царя Ивана. Судя по тому, сколько людей он казнил в Московии, там скоро некому будет взять в руки саблю…
– И казни продолжаются, – поспешил вставить слово Замойский.
– Еще я думаю, – согласно кивнул головой король, – московиты не любят воевать в чистом поле. Обычно они залазят на стены крепостей, наглухо закрывают ворота и лишь тогда обретают храбрость.
– Это так.
– Мы воспользуемся их слабостью и заставим драться в открытом поле. Многие крепости в Ливонии уже разрушены. К тому же мной приказано отлить побольше осадных орудий. Думаю, через два, самое большее через три года мои солдаты войдут в Москву.
Замойский с интересом посмотрел на своего короля, которого увидел совершенно по-новому. Даже его малый рост стал не столь заметен, глаза блестели, мысли, высказываемые им, были верны и четки. Перед ним стоял решительный, полный сил человек, и так ли важно, какого он происхождения. Ведь и сам Замойский вышел из незнатного шляхетского рода, и все его состояние вполне умещалось в обычном походном сундуке. Он так же, как и Баторий, не любил бородатых московитов, неопрятных в одежде, превозносивших свою веру превыше других. Оставаясь католиком, Баторий водил дружбу и с гугенотами-протестантами, охотно принимая их на службу. В то же время он привлек на свою сторону отцов-иезуитов, которые открывали по всей стране школы и выдворяли из храмов православных священников. Нет, с таким королем Польша воистину станет великой державой!
– Итак, панове, готовь большое посольство к турецкому султану и воевод для усмирения казаков.
– Давно нет известий от наших послов, что выехали к шведскому королю.
– От них я жду хороших известий.
– Объявлять ли о войне с Московией?
– Немного подождем, когда войска будут полностью готовы. Об этом сообщить всегда успеем.
В дверь постучали – и в комнату вошел запыленный гонец, держа в вытянутой руке грамоту с большой красной печатью на шнурке. Баторий торопливо принял ее, вскрыл, прочел вслух:
– Император Максимилиан находится при смерти, – и со вздохом, перекрестившись, добавил: – и тут Господь за нас.
Престарелый Девлет-Гирей все лето провел в Бахчисарае, не предприняв даже слабых попыток пойти в очередной набег на Русь. Тяжелая болезнь изнуряла его одряхлевшее тело и не позволяла подолгу оставаться в седле. Теперь он заходил в свой гарем, по праву считавшийся одним из лучших среди многих владык, лишь для того, чтоб полюбоваться юными созданиями, все с тем же постоянством привозимыми к нему со всех концов света. Он подходил к новой девушке, трепетавшей уже при одном его приближении, гладил ее шелковистую кожу, проводил рукой по выпуклостям груди, безошибочно определяя, девственницу ли ему привезли, и… с тяжким вздохом шел дальше. Девушки томились в безделье и ожидании, когда же их поведут в покои своего господина. Но проходил день за днем, на их половине появлялись мрачные евнухи, придирчиво оглядывая наложниц, тонкими бабьими голосами отдавали распоряжения и вновь исчезали. Хан Крыма не желал тратить силы на любовные забавы, проводя все время в саду с сыновьями и визирями.
Он знал, дни его сочтены, и понимал, что не сделал всего того, о чем мечтал в молодости. А как велики были те мечты! Царь Иван трепетал в своем дворце, когда сотни нукеров Девлет-Гирея пересекали границы его владений. Сколько городов и малых селений он покорил, разрушил! Сама Москва лежала у его ног, застланная дымом пожарищ. Тогда он написал царю гневное письмо, обвинив его в трусости, потребовал посадить своего сына Адыл-Гирея в Казани, увести стрельцов из Астрахани. Иначе… клинки его нукеров обратят в прах полки московитов.
Царь Иван откупился богатыми дарами, но Казань не уступил. И король литовский, и хан ногайский просили помощи у Девлет-Гирея, присылали гонцов, богатые поминки, надеясь с его помощью разбить полки московитов. Но что могут дать нищие литовцы? Присылаемые раз в десять лет дары не прокормят доблестных ханских воинов, которым совсем не хочется подставлять свои головы под тяжелые московские топоры. А разве можно верить ногайскому хану, что сегодня обещает дружбу навек, а завтра нападает на его улусы, грабит его людей? Нет, друзья даются один раз и на всю жизнь, и лишь когда казаки поприжали ногаев, те сразу вспомнили о дружбе с Крымом.
Но труднее всего давалась Девлет-Гирею дружба с турецким султаном, который видел в нем не столько друга, сколько своего подданного. Султан требовал отбить у русских Астрахань, отогнать казаков с его владений, регулярно присылать рабов и наложниц. Какая же это дружба, когда один приказывает, а другой и возразить не смеет?
По-настоящему испугался крымский хан, когда султан Селим решил сам взять Астрахань, чтоб по морю с персами воевать. Войско, им отправленное, могло поглотить все запасы его ханской казны. Янычары требовали свежего мяса, вина, женщин, лошадей, повозки. И отказать он не смел. Выполнял все требования ненасытных своих друзей. Но больше всего он боялся, что янычары возьмут Астрахань и обоснуются там. Русские, те хоть в Крым не лезут, а турки, чего доброго, и его, хана, в море спихнут, и сами править начнут, переустраивать все по-своему. Хвала Аллаху, испугались они долгой зимы, вернулись обратно и больше в его владения не совались. Надолго ли…
Девлет-Гирей сидел на мраморной скамье в тенистом саду, перед ним нежно журчал фонтанчик, отдавая влажную прохладу струй, навевая грустные мысли и воспоминания. Хану доложили о прибытии московского посла Афанасия Нагого, который почти ежедневно навещал его, ведя длительные переговоры и привозя каждый раз с собой поминки от московского государя. Хан хотел пойти во дворец, но решил, что и здесь, в саду, тоже его покои, и какая разница, где вести беседу с послом, лишь бы она завершилась удачно, велел пригласить Нагого в сад.
Афанасий Нагой уже с начала весны жил в Бахчисарае, неоднократно встречался с ханом, склоняя того на подписание длительного мира с царем, но тот в последний момент уперся из-за пустяка: требовал увеличить размер поминок-даров, обещаемых ему Иваном Васильевичем. Было смешно и противно слушать, как хан торгуется из-за каждого халата, серебряного блюда, мешка зерна. С одной стороны, Нагой понимал, что затягивание переговоров выгодно для Руси. Значит, нынешним летом татары уже не нападут, не выйдут из Крыма. С другой стороны, осточертело жить в чужой стране, вести торг, как на базаре, хорошо помня при том, скольких несговорчивых русских послов до него татары бросили в темницу, лишили жизни, надругались, обобрав до нитки, выгоняли обратно ни с чем. Но царь наказал без мира не возвращаться и вести торг хоть год, хоть десять лет, но мир заключить.
– Как здоровье достопочтенного хана? – спросил Нагой, слегка поклонившись. Даже кланяться ханские визири требовали от него по своему разумению – доставать рукой до земли. Едва отбился от них, объясняя, мол, так только в церкви русский человек кланяется Господу Богу. А хан, хоть и называет себя наместником Аллаха на земле, но не Бог еще. Вскоре и совсем забыли про поклоны, лишь о подарках и напоминали.
– Благодарю, – сведя морщины вокруг узких глаз, улыбнулся Девлет-Гирей, – здоровье наше в руках Аллаха. Садись вон туда, – указал на маленькую скамеечку, стоявшую под деревом. Афанасий глянул на нее и понял, что хан хочет хотя бы таким способом унизить его, и, гордо вскинув голову, ответил с достоинством:
– Не пристало мне, посланцу царя московского, сидеть на детской скамеечке. Вышел я из того возраста.
– Да ты, Афанасий, никак обиделся? – притворно всплеснул руками хан и хлопнул в ладоши, велев выросшему как из-под земли рабу принести кресло для гостя.
– Вот это другое дело, – проговорил Нагой, надежно усаживаясь, и приказал толмачу, исполнявшему роль писца, подать из походного сундучка бумаги.
– Согласен ли ты, Афанасий, обещать мне, что поминки, братом моим Иваном посылаемые, будут теми же, что и отец его посылал хану нашему Махмет-Гирею?
– Как я могу за царя отвечать, – улыбнулся Нагой, – у царя своя голова на плечах. Все ему передам как есть, а решать ему.
– Царь хочет мир со мной подписать?
– Давно хочет, да только ты, хан, не соглашаешься.
– Как же я могу согласиться, когда Казань у царя Ивана, брата моего, просил? Просил. Астрахань просил? Просил, – хан начал загибать свои морщинистые пальцы, поднося их близко к глазам, – а царь Иван мне что ответил?
– Царь наш, Иван Васильевич, отвечал, мол, как можно города те отдать, когда там в посадах и по селам давно церкви православные поставлены и русские люди живут. Татарам же даны поместья и службы в землях новгородской, псковской, московской, тверской. А в Казанской земле поставлены семь городов: на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, – как по писаному начал перечислять посол, но хан замахал руками, показывая нежелание слушать дальше.
– Вон сколько у брата моего Ивана городов! А он?! Двух городов пожалел. Ай-яй-яй, – совсем по-русски закончил хан.
– Мал золотник, да дорог, – усмехнулся Нагой.
– Говорили мне, будто бы царь Иван жадный, да я не верил. А какой город он вздумал ставить на Тереке? Он мое разрешение на то спросил?
Нагой, затаив усмешку в озорно блеснувших глазах, оправил русую бороду, с достоинством ответил:
– А как же! Он сына твоего хотел в Касимов-город на княженье посадить? Хотел, да хан отказался. Жену ему из нашенских предлагал? Хан не пустил сына жениться. Зато черкесский царь Темрюк дочь свою царю нашему в жены отдал, сыновей отпустил, а царь наш, Иван Васильевич, за то в помощь ему и крепость для обороны ставит. Разве он у тебя, хан, согласия дружить не спрашивал? А ты до сих пор судишь-рядишь, с кем дружить, с кем в мире жить… и решить не можешь.
– Так ведь мне, бедному, как иначе? Кто больше предложит – тот мне и друг, – чистосердечно признался Девлет-Гирей.
– Вот-вот. А ногайцы тебе что дали? А султан турецкий?
– И они дружбу предлагают. И хан бухарский, и хан сибирский – все дружбы моей ищут.
При последних словах Нагой насторожился. До него уже давно доходили сведения, будто из Бухары вместе с караванами к крымскому хану шлют грамоты, в которых предлагают соединить усилия всех мусульманских государей и вернуть обратно и Казань, и Астрахань, потеснить Москву, мечтают о временах Батыева нашествия.
– Как же насчет поминок, – вернул его к своим заботам Девлет-Гирей, – хочу те, что при Махмет-Гирее были назначены. Так и отпиши царю своему. Иначе не бывать миру меж нами.
Афанасию надоело торговаться, и он решил немного остудить боевой задор крымского правителя, напомнить о его действительном положении. Прошли те времена, когда Русь боялась татарских полчищ. Не усмотрели те, как буквально под носом у Крыма возникла немалая сила, называемая казаками.
– Хан, верно, знает, что на Дону, на Волге живут люди, что казаками себя прозывают? Сколь их там обитается, и мы того не ведаем. Сила их столь велика, что хан ногайский слезно к царю нашему писал, жалился на них. А вдруг да казаки те на Крым пойти похотят? Тогда как?
– Не бывать тому, – презрительно усмехнулся Девлет-Гирей, – всякий сброд, казаки какие-то не посмеют напасть на мое ханство.
– Еще как посмеют, – поднял предупредительно руку Афанасий Нагой, – только тогда пусть ваши послы не стучатся в двери царского дворца, не просят о помощи.
– Зачем такие нехорошие слова говоришь? – хитро сощурился крымский хан, хорошо понимая, что русский посол не зря напомнил ему о казаках, которые последнее время начали регулярно тревожить его аулы, каждый раз все ближе подбираясь к границам ханства. Много уже жалоб получил он от беков и мурз, чьи табуны были угнаны невесть откуда налетающими никому ранее не известными воинами. Урон, конечно, был от них небольшой, но укус даже маленького комара в больное место всегда ощущаешь болезненно, и даже раздавив зловредное насекомое, долго чешешь оставшуюся после него ранку. И сейчас посол задел ту самую болячку, которая последнее время не давала покоя крымскому хану. – Мы хотим в мире жить с нашим братом, царем московским, а просим его всего лишь о такой малости.
– Малости? – переспросил Нагой. – Астрахань и Казань – малость? Что же тогда будет большим для хана?
– Аллах с ними, с городами, – пренебрежительно отмахнулся Девлет-Гирей, – хлопот с ними не оберешься, с городами теми. Пущай ими брат наш московский владеет, коль они ему так нужны. У меня и здесь дел полно, – и он тяжело вздохнул, давая понять, как нелегко ему приходится в собственном дворце. – Троим сыновьям недавно обрезание делали, четырех дочек замуж собирать надо, а денег в казне нет, пусто. А все почему? Потому что на Москву давно не ходили мои нукеры, не привозили мне десятую часть от взятого в набеге. И царь московский поминок не шлет.
– Сколь надо? – обыденно, словно они находились на базаре, спросил Нагой.
– Две тыщи рублев надо, – выдохнул доверительно в лицо послу Гирей и добавил, – золотом.
– Как скоро нужны деньги? – поинтересовался Нагой.
– Ой, да хоть завтра, – обрадовался крымский правитель, и глаза его ласково заблестели, – в вечном мире с братом моим московским жить будем.
– Я напишу моему государю, – проговорил Афанасий Нагой, вставая, – но пока гонец до Москвы доскачет, пока его там примут, обратно вернется…
– Ждать стану, время терпит, – торопливо закивал головой Девлет-Гирей, – приходи сегодня ко мне ужинать, когда гонца в Москву направишь.
– Хорошо, – согласился Нагой, – сегодня и направлю, но ужинать, извини, хан, прийти не могу, свой повар у меня готовит. Нынче ведь пост Успенский, а ты, поди, сызнова барашка молодого к столу подашь.
– Для дорогого гостя ничего не жалко, – осклабился крымский правитель, – но как знаешь, неволить не буду.
– Поди радуешься, что одним едоком меньше будет, – буркнул про себя Нагой, уже выходя из дворца и с неприязнью глянув на стражников, что буквально ели его глазами, ожидая обычной подачки. – Фиг вам, – проговорил по-русски, надеясь, что те не поймут его слов.
Через два месяца из Москвы вернулся гонец и привез всего двести золотых, которые Иван Васильевич поручал послу вручить хану. Девлет-Гирей несказанно обрадовался этой подачке, словно позабыл, что просил в десять раз больше. В грамоте к Афанасию Нагому государь писал: «Отдай крымскому хану наши деньги, что под рукой оказались, а буде он еще поминок несуразных требовать, то припомни ему, что деньги и все злато земное есть тлен, которые с собой на небеса взять не можно…» Посол счел лучшим не сообщать о тех царских словах обидчивому Девлет-Гирею и через две недели, окончательно удостоверившись, что крымчаки не собираются готовить очередной набег на Москву, благополучно выехал из Бахчисарая.