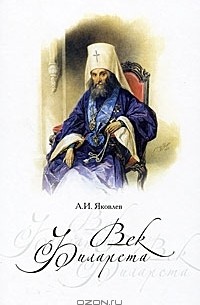Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 2. Ночные думы
Сон никак не шёл. Впал было в дрёму под тихое бормотание отца, стоявшего на коленях в спальне перед божницею, но вдруг будто тёплою водою смыло всю сонливость.
Он уезжает!
Милая, любимая Коломна, которую обегал сотни раз, в которой все и всё знакомо, от высоких речных берегов до широких дорог, уходящих за городскими заставами на юг и на север, от дедовского собора и всех церквей до городских лавок… И здесь останутся матушка и батюшка, любимые сестрички и брат, дедушка и бабушка, и странный второй дедушка, и крестный, и добрая Фроловна, и нелюбимые семинарские учителя, и сосед, ласковый ямщик Николай, уже старенький, давно передавший своё дело сыновьям, – отчего-то полюбился ему Вася Дроздов, и дед Николай при встрече совал ему то пряник, то жменю семечек. Большому уж и неловко было брать, отдавал младшим… Прощай, дед Николай!
Василий осторожно повернулся на узком сундуке и лёг на спину. Растопленная к ночи печь дышала жаром, и он распахнул старенький армяк, которым укрывался. В правом углу перед иконой Спасителя едва мерцала лампада. Кот спрыгнул с печи и тёмной тенью скользнул на топчан, в ноги к меньшим. За окном сторож ударил в колотушку. Да уже час ночи…
Чего не жаль, так это семинарии с её вечно грязными коридорами, не топленными в лютые морозы классами, бесконечной латынью и схоластическими рассуждениями, неизбежно вгоняющими в сон и рьяного любителя премудрости. Одно хорошо: в толпе грубых и ленивых семинаристов Василий обрёл нескольких товарищей, которые понимали его и были интересны ему.
Поначалу его обходили и косились, зная, чей он внук и сын. Всегда чисто, даже щеголевато одетый, тихий, вечно с опущенным взором, он держался наособицу. Все знали, что Дроздов наизусть помнит уроки из риторики, истории, латыни. Прохладный круг одиночества ограждал его, был привычен, но и тягостен. Вот почему вдруг вспыхнувшее товарищество сильно скрашивало неказистую жизнь в семинарии. Теперь же друг любезный Гриша Пономарёв поступал в тверскую семинарию, и его очень будет не хватать, но Ваня Пылаев и Андрей Саксин тоже отправляются к Троице.
Как жаль, что батюшка не позволил ехать в Москву, как жаль. Василий ни разу не был в Москве, но по рассказам деда и отца представлял огромный город с большим Кремлем посредине. Древняя столица манила своими легендами о прошлом величии и нынешней бурной жизнью при государе Павле Петровиче, при котором, слышно, всё быстро меняется. Вышел указ об отмене телесных наказаний для духовных. Вс` больше бывших поповичей-семинаристов становятся то докторами, то приказными чиновниками, иные выслуживают дворянство, покупают мужиков…
Василий нередко слышал такие мечтания в семинарии, раздумывал над ними, и они манили его, но душа на них не отзывалась. Он сознавал, что вполне мог бы пойти и в академию и в университет, светская карьера привлекала своим блеском, светский мундир много красивее немудрёной священнической рясы… А как смотрели дочки соседского настоятеля отца Симеона на офицеров, когда уланский полк проходил в петровский пост через город на новые квартиры. И Верочка, и Катенька, и Олечка глаз не могли оторвать от киверов, позументов, сабель, шпор… И бесполезно объяснять им, что не в блеске эполет подлинное счастье, подлинный смысл жизни. Ужасно обидно, потому что знаешь твёрдо: для тебя этот путь закрыт, а всё ж таки – слаб человек в семнадцать лет – невольно представляешь и себя на коне с саблею…
Как всё просто было в давние годы у дедушки Никиты. Долгими зимними вечерами Домника Прокопиевна сидела за прядением или шитьём при уютном огоньке сальной свечи, а внучок рядом на маленькой скамеечке, и хорошо им было. Текли нескончаемые бабушкины рассказы о былом.
– …а каких страхов я натерпелась в год рождения матери твоей. Объявились разбойники. Вожаком у них был атаман по прозвищу Кнут. Видно, успели его добрые люди отделать. На больших дорогах грабил с дружками купцов и всех прохожих, иных и убивали. Уж такого страху нагнали, что мы боялись за заставу выйти… Ловил разбойников присланный из Москвы сыщик Ванька Каин, сам из таких же. Вот он, говорили, и открыл, что гнездо душегубов на купеческих судах, а самих их чуть не полсотни. Ну, прислали солдат на конях и с ружьями, и они, конечно, разбойников одолели. Когда вели их в Москву, весь город сбежался посмотреть. Я в тягости была, сидела дома, соседки потом всё-всё порассказали, что видали… А то драки меж своими коломенскими случались, купцы у нас гордые, с норовом, чуть что не по них – никому не спустят. Вот, помню, я ещё в девушках была, обиделись купцы на ямщиков городских за неуважение. Собрались да и разбили несколько дворов ямщицких, а иные и спалили. Всё так с рук и сошло. После кирпичники из Митяевой слободы вздумали на купцов жалобу подать. Куда там, купцы в суде так дело повернули, что кирпичники оказались во всём виноватыми, будто бы не их били и мучили, а они. Известное дело – с богатым не судись…
Строгий дедушка не одобрял бабушкиной бывальщины. Он звал Васю к себе, зажигал особенную свечу в серебряном подсвечнике и раскрывал большую тяжёлую книгу в потёртом кожаном переплёте.
Истории из Священного Писания были интересны для мальчика по-другому. Тут главным были не сменяющие друг друга цари и пророки, битвы и страдания простых людей, а Господь Вседержитель, по милости своей устроивший землю и всё на ней, открывший грешным людям законы жизни и пути спасения. Однако самой любимой была у Васи история ветхозаветного Иосифа, всякий раз трогавшая до слёз. Не раз случалось, что дед намеревался прочитать иное, что Вася упрашивал его прочитать про Иосифа. Посопев и покряхтев, дед соглашался. Усаживался удобнее, оглаживал седую окладистую бороду и громко и внятно, как и следовало читать Святую Книгу, начинал:
– Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком… Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его; и сделал ему разноцветную одежду.
И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно…
И сказали друг другу: вот идёт сновидец;
Пойдём теперь и убьём его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его…
Когда Иосиф пришёл к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его…
И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва, и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет…
Бабушка откладывала работу и тоже внимала древней истории, поглаживая голову самозабвенно слушающего внука. Как переживало детское сердце горе бедного отца и страдания самого Иосифа, но и как же было уверено в окончательном торжестве правды, ибо читал дед:
– …И был Господь с Иосифом; он был успешен в делах…
Глаза старика скоро уставали. Он откладывал книгу, но малыш продолжал смотреть на него вопрошающе. Сейчас-то Василий понимал, что скромен познаниями был протоиерей Никита, не такой великий книгочей, как батюшка, но прост и твёрд был в вере своей, сохранив до преклонных лет простодушное удивление перед величием Господа.
…Сколь лет живу, грешный, а не перестаю удивляться милосердию Господнему. Нам если кто причинит зло, иной изничтожить готов, а всемогущий Господь, жизнию и смертию нашею владеющий, нас, окаянных, терпит во всей скверне нашей…
Вася любил эти нечастые серьёзные рассуждения. Он как должное воспринимал сдержанность и внешнюю суровость деда, который был иерей, стоящий между обычными людьми и самим Богом.
Когда же на праздники приходили гости, дед доставал гусли, засучивал рукава рясы и играл то церковные распевы, то протяжные песни, то плясовые мелодии, да так, что маменька с бабушкой в пляс пускались, там и крестный дядя Пётр… Только маленький Вася стеснялся, пока его не вытаскивали на середину круга, и приходилось вертеться и бить каблуками об пол.
Летом нередко отправлялись в гости к коломенским батюшкам, к знакомым купцам, но самыми памятными были посещения нескольких дворянских домов прихода. Там были не простые слуги, а лакеи в ливреях. Икон в комнатах было мало, на стенах всё больше висели здоровенные тарелки и картины, которые Вася со вниманием разглядывал. Хозяева встречали их в непривычных нарядах: в коротких кафтанах, с напудренными косичками и в диковинных чулках и башмаках. В таких гостях Васю за обедом сажали за отдельный столик с детьми, что было унизительно.
Вообще же мир в детстве виделся разумным и прочно устроенным. Сомнения возникали то при виде нищих слепцов, то ковыляющей на трёх лапах собаки, которую гоняли по базарной площади купеческие приказчики, а она послушно отбегала и просяще оглядывала людей.
В один из дней бабьего лета накануне Васиного поступления в семинарию пошли с бабушкой на кладбище. Навестили могилки своих и отцовских родных, помолились об упокоении душ умерших, прощении им всяческих грехов и даровании жизни вечной, перекусили яблоками с хлебом, посидели на лавочке у ворот, и тут бабушка сказала:
– Ох, грехи наши… Почитай сколько здесь лежит святых…
– Святые в церкви! – возразил внук.
– Те, что в церкви, их все знают, а сколько тихих, малых, одному Богу известных своим терпением да любовью, трудом да верою. Тут близ церкви духовные лежат, дворяне, подальше купцы, а остальные все – мужики да бабы, а они – не мещане, а дворовые да деревенские – всё народ подневольный, крепостной. Легко ли терпеть чужую волю!.. Помещики разные бывают. Иные подлинно родные отцы мужикам, а иные что звери хищные…
И потекли рассказы о свирепстве и жестокости владельцев крепостных душ.
–..А прошедшей зимой проехали наши слободские в лес за дровами и нашли замерзшего мальчика чуть ли не твоих годов. Оказалось, был в дворовых графа здешнего и как-то случайно – мальчишки народ резвый – разбил любимый графский цветок. Граф приказал пороть мальчика, да не один раз, а всю неделю. Малый на второй день едва живой был, да и сбежал. Лес радом.
От побоев-то он ушёл, а в лесу от мороза куда уйдёшь?.. Собака какая-то его грела, да, видно, заснул он и не проснулся. После собаку эту на кладбище видели, где его отец твой хоронил.
– Бабушка, не эта ли собака по базару нынче бегала?
– Кто ж её знает…
– А граф?
– Граф он граф и есть. Он волен наказывать своих людей, как считает нужным. Говорят, правда, в дворянском собрании с ним иные здороваться перестали, да что с того…
Так обнаруживалось, что не все люди свободны, добры и счастливы, что в земном порядке имеются изъяны… Насколько же разумнее и добрее церковный образ жизни. Прав, прав батюшка!
Храм Божий для Васи Дроздова был привычен и знаком, как родной дом. Прежде всего, то было место особого присутствия Божия, особой благодати Господней. В храме детей крестят, взрослых венчают, покойников отпевают. Вся жизнь человеческая в главных её моментах оказывается связанной с храмом.
То был также дом молитвы. Конечно, молиться можно и дома, и Господь не пропустит искреннее обращение к нему, но всё же молитва в храме особенная. Скудость молитвы одного восполняется здесь сосредоточенностью другого, усиливается молитвами священнослужителей, подкрепляется присутствием Святых Тайн, пением и чтением священных текстов. Дед частенько повторял, что в храме одна молитва Господи, помилуй имеет гораздо большую силу, чем многие молитвы и поклоны на дому.
В детстве Вася отправлялся в храм с бабушкой. Идти было недалеко. И зимой по хрустящему снежку, и летом по мягкой травке Вася домчался бы в одно мгновение, но это не позволялось. Бабушка укоризненно качала головой, а дед мог потрепать за ухо:
– Не на ярманку летишь! Уважай храм Божий!
Как обижала тогда Васю непонятливость деда – ведь просто хотел поскорее переступить порог храма, ощутить привычный запах ладана, поставить свечки перед иконами, которые считал «своими»: Николая Чудотворца, Божией Матери Владимирской, Всех Святых и перед образом Спасителя… А после приходили другие люди и зажигали свои свечи от его огонька. Необъяснимо тепло и радостно становилось тогда.
Читались положенные молитвы, диакон обходил с курящимся кадилом весь храм, а после выходил перед царскими вратами и басом возглашал:
– Господу помолимся!
И певчие отвечали:
– Господи, помилуй!
И все в храме крестились и совершали поклоны, ибо нет людей вовсе безгрешных, и всякий молит о милосердии Господнем. Возглашал диакон прошения к Господу о здравии священнослужителей и всех молящихся, о прощении грехов наших, о благоденствии града и отечества нашего, дабы миновали его мор и голод, войны и внутренние распри; о спасении душ всех христиан возносятся моления, душ и живых и умерших… Можно ли остаться равнодушным к такой молитве?
Порядок службы Вася незаметно выучил наизусть, но ему никогда не надоедало смотреть, как появляется на малом входе дед из алтаря, торжественно-строгий и чуть незнакомый, вскидывает руку перед вознесённым Евангелием; как величаво, нараспев диакон читает святое Евангелие, как радостно и всякий раз со значением дед произносит молитву перед таинством Причащения.
Вася твёрдо и безусловно знал, что Господь незримо присутствует в храме, что искренняя молитва непременно дойдёт до Него, и Он пошлёт благодать, то неземное ощущение светлой теплоты и тихой радости, которые мальчик чутко выделял среди повседневных житейских чувств. В детстве он подходил к причастию каждое воскресенье. Замирало сердце от мысли, что Всемогущий Господь послал Своего Сына на крестные муки ради нас, таких обыкновенных, что Он дарует нам часть Крови Своей и Тела Своего для спасения душ наших… Движутся люди ко святой чаше, все ласковы, добры и предупредительны: сначала дворянские семейства, потом они с бабушкой, потом остальные, будто действительно – братья и сёстры. Если б только можно было всегда так, всегда такими быть, то никто бы не погубил бедного мальчика. Эту бабушкину историю он почему-то запомнил навсегда.
Иногда крестный дядя Пётр водил его в кафедральный Успенский собор. Вася немного робел громадности храма, незнакомых людей и очень боялся совершить оплошность, ведь он был сыном и внуком уважаемых священников. Дядя Пётр брал его на колокольню. Запыхавшись от крутизны лестниц, Вася всякий раз бывал поражён открывавшимся сверху видом родного города, который ему никогда не надоедало разглядывать. Он видел и дедовский дом, и церковь, где крестили его, а в другой стороне – отцовский храм Троицы, луковку с крестом на крыше родного дома; торговые ряды казались совсем близко, а базарная площадь виделась даже маленькой. Прекрасно были видны оба храма недалёкого Бобренева монастыря.
Но ещё большее наслаждение Вася получал от колокольного звона. С первым ударом большого, многопудового колокола оглушала глухота, а после радостное тепло появлялось в груди. Звонарь Алексей перебирал перепутанные, казалось бы, верёвки, нажимал на дощечки, а то всем телом раскачивал язык большого колокола, и дивный благовест плыл над Коломной, сливаясь с перезвонами других церквей. Очень тогда хотелось Васе стать звонарём.
Отец однажды взял его с собой в Бобренев монастырь на празднование чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и там сводил его в иконописную мастерскую. В полном восторге от увиденного он решил, что самое замечательное – это иконопись, благолепное выписывание образов святых. Отец похвалил его намерение, и строгий дед тоже…
– Ох, грехи наши тяжкие… – услышал Василий старушечий голос и шаркающие шаги из кухни по коридору, а там и увидел в неприкрытую дверь тёмную фигуру Алексеевны, простоволосой, в бесформенной юбке и рубашке.
«Что это она вскочила?» – подумал Василий и тут только сообразил, что на соборной колокольне пробили уже четыре раза.
– Алексеевна, – шёпотом окликнул он, – что, уже утро?
– Известно, утро, – подошла она к двери, крестя раскрытый в зевоте рот. – Чего не спишь-то? Мне пироги ставить надо, а тебе, соколик, самое время сны бархатные видеть.
– Это какие ж такие бархатные? – улыбнулся юноша.
– А ты, голубок, ляг на правый бочок, закрой глазки и увидишь. Охо-хо… Господи, помилуй! Господи, помилуй меня, грешную…
Василий только закрыл глаза и мгновенно заснул глубоким счастливым сном.