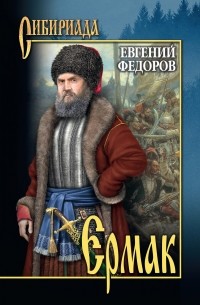Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
Утром, на золотой заре, казак Степанка повел гостя в свой курень. Пришлый шел молчаливо, с любопытством поглядывая кругом, за ним брел оседланный послушный конь его с притороченными переметными сумами. Минули осыпавшийся земляной вал, оставили позади ров, вот высокий плетень, а вдали караульная вышка с кровлей из камыша. По скрипучим доскам ходит часовой. По сторонам разбросанные в зелени избенки да землянки, как сурковые норы. Ермак вздохнул и подумал: «Эх, живут легко, просто, не держатся за землю!»
Пересекли густые заросли полыни, а станицы, какой ее желал увидеть Ермак, все не было.
– Где же она? – спросил он.
Казак улыбнулся и обвел рукой кругом:
– Да вот же она – станица Качалинская. Гляди!
Из бурьянов поднимались сизые струйки дымков, доносился глухой гомон.
– В землянухах живем. Для чего домы? Казаку лишь бы добрый конь, острая сабелька да степь широкая, ковыльная, – вот и все!
Степан свернул вправо; в зеленой чаще старых осокорей – калитка, за ней вросшая в землю избушка.
– Вот и курень! – гостеприимно оповестил хозяин.
Ермак поднял глаза: под солнцем, у цветущей яблоньки, стояла девушка, смуглая, тонкая, с горячим румянцем на щеках, и пристально глядела на него. Гость увидел черные знойные глаза, и внезапное волнение овладело им.
– Кто это у тебя: дочь или женка? – пересохшим голосом спросил он казака.
Степан потемнел, скинул баранью шапку, и на лбу у него обозначился глубокий шрам от турецкого ятагана. Показывая на багровый рубец, волнуясь, сказал:
– Из-за нее помечен. В бою добыл ясырку. А кто она – дочь или женка, и сам не знаю. – Много тоски и горечи прозвучало в его голосе.
Ермак сдержанно улыбнулся и спросил:
– Как же ты не знаешь, кто она тебе? Не пойму!
Если бы гость не отошел в сторону и не занялся конем и укладками, то увидел бы, как диковато переглянулись Степан и девка и как станичник заволновался.
Не смея поднять глаза на девку, Ермак спросил ее имя. Стройная, упругой походкой она прошла по избе и не отозвалась, за нее ответил Степан:
– Уляшей звать. Как звали ранее – быльем поросло. Взял двоих: татарку Сулиму и девку. Везла басурманка черноволосую в Кафу, к турецкому паше. Эх, что и говорить…
Гость украдкой взглянул на ясырку. Девушка была хороша. Бронзовая шея, точеная и сама гибка, как лоза, а губы красные и жадные. Опять встретился с нею взглядом и не мог отвести глаз. Сидел, словно оглушенный, и голос Степана доносился до него, как затихающий звон:
– Уходили мы к морю пошарпать татарские да ногайские улусы. Трудный был путь. Кровью мы, станичники, добывали каждый глоток воды в скрытых колодцах, на перепутьях били турок. И вот на берегу, где шумели набегавшие волны да кричали чайки, у камышей настигли янычар – везли Сулейману дар от крымского Гирея. Грудь с грудью бились, порубали янычар, и наших легло немало. Стали дуван дуванить, и выпала мне старая ясырка Сулима да девушка, по обличью цыганка. Сущий волчонок, искусала всего, пока на коня посадил… Одинок я был, а тут привез в курень сразу двух. Только Сулима недолго прожила, сгасла, как свеча, и оставила мне сироту – горе мое…
Степан смолк, опустил на грудь заметно поседевшую голову.
– Чем же она тебе в напасть? – спросил Ермак.
– Да взгляни на меня. Кто я? Старик, утекла моя жизнь, как вода на Дону, укатали сивку крутые горы…
Тут Уляша тихо подошла к старому казаку, склонилась к нему на плечо и тонкой смуглой рукой огладила его нечесаные волосы:
– Тату, не сказывай так. Никуда я не уйду от тебя. Жаль, ой жаль тебя! – На глазах ее сверкнули слезы.
«Что за наваждение, никак опять глядит на меня?» – подумал Ермак. И в самом деле, смуглянка не сводила блестевших глаз с приезжего, а сама все теснее прижималась к плечу Степана, разглаживая его вихрастые волосы.
– Добрый ты мой! Тату ты мой, и мати моя, и братику и сестрица, – все ты мне! – ласкала она казака.
Сидел Ермак расслабленный и под ее тайным взором чувствовал себя нехорошо, нечестно…
Оставался он в курене Степана неделю.
Станичник сказал ему:
– Ну, Ермак, бери, коли есть что, идем до атамана! Надо свой курень ладить, а без атамановой воли – не смей!
Гость порылся в переметной суме, добыл заветный узелок и ответил Степану:
– Веди!
Привел его станичник к доброй рубленой избе с высоким крыльцом.
– Атаманов двор? – спросил Ермак и смело шагнул на тесовые ступеньки. Распахнул двери.
В светлой горнице на скамье, крытой ковром, сидел станичный атаман Андрей Бзыга. Толст, пузат, словно турсук, налитый салом. Наглыми глазами он уставился в дружков.
– Кого привел? – хрипло, с одышкой спросил атаман.
– Расейский бедун Дону поклониться прибыл, в станицу захотел попасть, – с поклоном пояснил Степан и взглянул на дружка.
Ермак развязал узелок, вынул кусок алого бархата, развернув, взмахнул им, – красным полымем озарилась горница.
«Хорош бархат! – про себя одобрил Бзыга и перевел взор на прибылого. – Видный, кудрявый и ухваткой взял», – по душе пришелся атаману. Переведя взор на рытый малиновый бархат, Бзыга снисходительно сказал Ермаку:
– Что же, дозволяю. Строй свой курень на донской земле. А ты, Степка, на майдан его приведи!
Вышли из светлого дома, поугрюмел Ермак. Удивился он толщине и лихоимству Бзыги.
– Ишь, насосался как! Хорошее же на Дону братство! – с насмешкой вымолвил он. На это Степанка хмуро ответил:
– Было братство, да сплыло. И тут от чужого добра жиреть стали богатеи. – Замолчал казак, и оба, притихшие, вернулись в курень…
Напротив, на бугре над самым Доном, Ермак рыл землянку, песни пел, а Уляша не выходила из головы. Совестно было Ермаку перед товарищем. Степанка хоть и мрачный на вид человек, а отнесся к нему душевно, подарил ему кривую синеватую саблю. Казак торжественно поднес ее к губам и поцеловал булат:
– Целуй и ты, сокол, да клянись в верном товаристве! Меч дарю неоценимый, у турка добыл – индийский хорасан. Век не притупится, рубись от сердца, от души, всю силу вкладывай, чтобы сразить супостата!
– Буду верен лыцарству! – пообещал Ермак и, опустив глаза в землю, подумал: «Ах, Уляша, Уляша, зачем ты между нами становишься?»