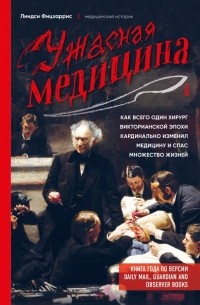Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1. Через объектив
Давайте не упускать из виду, что наука не просто лежит в основе скульптуры, живописи, музыки и поэзии – наука поэтична сама по себе… Те, кто вовлечен в научные исследования, непрестанно открывают нам не менее, а то и более яркую поэзию объектов своих изысканий.
Маленький Джозеф Листер поднялся на цыпочки и приник к окуляру отцовского микроскопа, оснащенного по последнему слову техники. В отличие от складных версий, которые туристы прятали в карманах и брали с собой в морские путешествия, этот прибор был ошеломляющим. Гладкий, красивый, мощный – настоящий символ научного прогресса.
Впервые посмотрев сквозь микроскоп, Листер восхитился хитроумным миром, который прежде был сокрыт от его глаз. Его поражал тот факт, что можно было рассмотреть под микроскопом все, что угодно. Однажды он вытащил из моря креветку и с трепетом наблюдал, как «быстро бьется сердце» и как «пульсирует аорта». Он отмечал, как медленно кровь циркулирует на поверхности конечностей и по задней стенке сердца, пока существо извивалось под его пристальным взглядом.
Листер родился 5 апреля 1827 года, и это событие никак не было отмечено. Хотя шесть месяцев спустя его мать в письме супругу разразилась похвалами: «Сегодня малыш необычайно прелестен». Он был четвертым ребенком в семье и вторым сыном, одним из семи детей, рожденных у Джозефа Джексона Листера и его жены Изабеллы – пары набожных квакеров.
У Листера было предостаточно возможностей изучать миниатюрный мир, пока он рос. Простота служила девизом жизни квакеров. Листеру не разрешалось охотиться, участвовать в спортивных состязаниях, посещать театр. Предполагалось, что жизнь дана человеку, чтобы восхвалять Господа и помогать ближнему, а вовсе не для погони за легкомысленными увлечениями. Вот почему многие квакеры обращались к науке – по сути, это была одна из немногих дозволенных игр. Нередко среди них находились талантливые люди, которые даже в стесненных жизненных обстоятельствах достигали высот и славы.
Доказательство этому факту – пример отца Листера.
В четырнадцать лет он бросил школу и стал подмастерьем у собственного отца, торговца вином. Хотя большинство квакеров воздерживались от употребления алкоголя в викторианские времена, вера прямо не запрещала пить. Бизнес семейства Листеров насчитывал века и начинался в то время, когда трезвость в среде квакеров еще не обрела популярность. Джозеф Джексон стал деловым партнером отца, однако мировую известность ему принесли именно открытия в области оптики, совершенные в юности. Все началось с того, что он, будучи еще мальчиком, заметил, что пузырь, застрявший между оконными рамами в кабинете отца, работает как обычная лупа.
В начале XIX века микроскопы по большей части продавались как игрушки для джентльменов. Они размещались на квадратных подставках из дерева с выдвижными ящичками, где хранились дополнительные линзы, штанги, штуцеры (часто так и остававшиеся неиспользованными). Большинство производителей поставляло в комплекте с микроскопами готовые препараты из костей животных, рыбьей чешуи, нежных цветов. Очень немногие в этот период приобретали микроскоп для серьезных научных изысканий.
Джозеф Джексон Листер был исключением. В период с 1824 по 1843 год он стал большим фанатом этого устройства и посвятил себя устранению его недостатков. Большинство линз продуцировали искажения из-за световых волн разной длины, которые преломлялись проходя через стекло. Вот откуда возникал венчик пурпурного цвета, который заставлял сомневаться в правдивости показаний микроскопа. Джозеф Листер усердно работал, чтобы устранить эту проблему, и в 1830 презентовал линзы, которые не создавали отвлекающий внимание венчик. Занимаясь винным бизнесом, Листер каким-то образом находил время шлифовать линзы и заниматься математическими расчетами, необходимыми для их создания, – этими расчетами пользовались некоторые ведущие производители микроскопов в Лондоне. Благодаря своей работе Листер получил стипендию Королевского общества в 1832 году.
На первом этаже дома детства маленького Листера был «музей» – комната, полная окаменелостей и других научных образцов, которые разные члены семьи собирали на протяжении многих лет. Отец настаивал, чтобы каждый из детей читал ему по утрам, пока он одевался. Библиотека представляла собой собрание религиозных и научных трудов. Одним из первых подарков Листера сыну был четырехтомник под названием «Домашние вечера» («The Juvenile Budget Opened»), содержащий басни, сказки и рассказы о природе.
Листер избежал опасных препаратов, которыми пичкали его сверстников в процессе взросления, поскольку его отец верил в «живую лекарственную терапию», буквально – в исцеляющую силу природы. Как и большинство квакеров, Джозеф Джексон был нигилистом, когда речь шла о лекарствах, придерживаясь идеи, что важнейшую роль в выздоровлении играет божественное провидение. Он полагал, что введение в тело чужеродных субстанций излишне, а порой даже опасно для жизни. В эпоху, когда большинство препаратов содержали такие высокотоксичные наркотики, как героин, кокаин и опиум, принципы Джозефа Джексона, вероятно, не сыскали большой популярности.
В свете подобных семейных ценностей для всех стало шоком, когда юный Листер объявил, что хочет стать хирургом – работа, которая предполагала прямое вмешательство в творение Бога. Никто из его родственников (за исключением дальнего кузена) не был врачом. А хирургия была своего рода клеймом даже для тех, кто не принадлежал к квакерам. Хирурга считали человеком, который зарабатывает на жизнь ручным трудом – вроде современного водопроводчика; ничто так не демонстрирует положение хирургов в обществе, как их относительная бедность. До 1848 года ни в одном крупном госпитале не было штатного хирурга, и большинство хирургов (за редким исключением) немного зарабатывали на своей частной практике.
Но влияние, которое карьера в медицине могла оказать на его социальное и финансовое положение, мало волновало молодого человека. Летом 1841 года (в то время ему было четырнадцать) он пишет отцу, который уехал из города по делам: «Мама ушла, я был предоставлен сам себе, и делать было нечего, кроме как рисовать скелеты». Листер просит привезти соболиную кисть, чтобы лучше передать текстуру мышцы человека. Он пишет, что изобразил все кости черепа и рук, спереди и сзади. Как и его отец, Листер хорошо рисовал, что впоследствии помогало ему тщательно документировать все детали проводимых исследований.
Тем же летом 1841 Листер увлеченно занимается разделыванием овечьей головы и в том же письме отцу сообщает: «Я почти отделил все мясо и, полагаю, мозг тоже… [предварительно] поместив голову в ванную». (Это было сделано, чтобы размягчить оставшиеся ткани.) Позже он обрабатывает и закрепляет скелет лягушки на кусочке дерева, украденном из стола сестры. Он с гордостью пишет отцу, что «это выглядит так, словно лягушка вот-вот прыгнет», заговорщически добавляя: «Не говорите Мэри о той деревяшке».
Каковы бы ни были возражения Джозефа Джексона Листера по поводу карьеры врача, было очевидно, что его сын станет профессионалом в этой области.
Листер попал в совершенно иной мир в возрасте 17 лет, когда начал учиться в Университетском колледже в Лондоне. В его родной деревне Аптон было всего 12 738 жителей. Хоть она и находилась всего в 16 км от города, до Аптона можно было добраться только на лошади и в повозке, по грязным тропам, которые в те времена считались дорогами. Восточный мост пересекал ручей, который тек через сад Листеров – в те времена там росли яблони, бук, вяз, каштаны. Его отец пишет об «окнах, распахнутых в сад, где царят тишина и тепло, щебечут птицы, жужжат насекомые, а на светлой лужайке виднеются кусты алоэ, темные заросли кедров и пестрое небо над головой».
В отличие от ярких садов Аптон-Хаус, Лондон сиял в серой палитре. Художественный критик Джон Раскин называл это «чудовищным брожением нагроможденной кирпичной кладки, которая изливает яд из всех щелей». Мусор обычно громоздился кучами возле домов, в некоторых из которых не было дверей, так как бедняки использовали их на растопку очага в холодные зимние месяцы. Всюду по дорогам и переулкам лежал навоз от тысяч оседланных лошадей, повозок, омнибусов и экипажей, которые ежедневно грохотали по городу. Все – от зданий до людей – было покрыто слоем сажи.
За столетие население Лондона выросло с одного миллиона до шести. Богачи оставили город в поисках свежего воздуха, а их дома быстро пришли в негодность из-за оккупировавших их бедняков. В одной комнате могло жить тридцать, а то и больше человек всех возрастов, одетых в грязные тряпки, сидящих на корточках, спящих и испражняющихся на соломе. Самые бедные жили в «подвальных домах», куда не проникал солнечный свет, где крысы глодали лица и пальцы недоношенных младенцев, многие из которых погибали в этих темных, влажных и зловонных местах.
Лондон был городом, тонувшим в собственной грязи, миром, кишащим скрытыми опасностями, который, однако, горячо любили местные жители.
Смерть была частым гостем в Лондоне, и все сложнее становилось справляться с потоком умерших. Церковные дворы переполнялись трупами, что создавало угрозу для здоровья живых. Нередко можно было увидеть кости, выступающие из недавно вскопанной земли. Мертвецов в могилы просто наваливали сверху, а сама могила по сути представляла собой ряды гробов, сложенных друг на друга. В начале века двое мужчин предположительно задохнулись от трупных испарений, когда упали на дно шестиметровой могильной ямы.
Для тех, кто жил рядом с такими ямами, запах был невыносим. Дома по Клеменс-Лейн в восточной части Лондона соседствовали с церковным подворьем, откуда сочился запах гниения; зловоние было столь сильным, что окна круглый год оставались закрытыми. Дети, посещавшие воскресную школу в часовне Энон, не могли избежать этих кошмарных напоминаний. На уроках вокруг них вились мухи, без сомненья прилетающие из склепа, в котором гнили двенадцать тысяч трупов.
Система удаления отходов жизнедеятельности человека находилась в рудиментарном состоянии вплоть до принятия в 1848 году «Закона об общественном здравоохранении», согласно которому был учрежден централизованный Генеральный Совет Здравоохранения. Это положило начало революции в санитарии. До 1848 года многие улицы Лондона имели прямой выход в открытую канализацию, отчего в воздух выбрасывались огромные (часто даже смертельные) дозы метана. В худших жилищных комплексах линии домов (называемые в народе «спина к спине») разделялись только узкими проходами в полтора-два метра. Прямо по этим улочкам располагались канавы, полные мочи. Даже резкое увеличение количества туалетов в период с 1824 до 1844 года не решило проблему. Их конструкция лишь вынудила домовладельцев нанимать людей, которые бы вывозили отходы из переполненных выгребных ям в городских зданиях. Формировалась целая армия «костяных котлов», «тошеров», «грязевых жаворонков». Эти мусорщики – автор Стивен Джонсон называет их первыми в истории сотрудниками службы по переработке отходов – собирали тысячи фунтов мусора, фекалий и трупов животных, а затем вывозили на местные рынки, где отходы скупали кожевники, фермеры и другие дельцы.
Бизнес, проводимый в иных районах, также не добавлял очков санитарии. Котельные по варке жира и клея, производство мехов, переработка требухи, обдирание кожи – и вся эта зловонная работа велась в одном из самых густонаселенных районов города. Например, в Смитфилде (всего в нескольких минутах от Собора Святого Павла) располагалась бойня. Стены здания были покрыты кровавыми ошметками и жиром. Овец сбрасывали в глубокие ямы, ломая им ноги, а затем работник, вооруженный ножом, перерезал им глотку, сдирал кожу и разделывал тушу. Вечером мясники отправлялись домой, в трущобы, неся на одежде следы своей неприглядной профессии.
Это был мир, кишащий скрытыми опасностями. Даже зеленая краска в обоях «в цветочек», которые клеили владельцы состоятельных домов, даже искусственные листья на дамских шляпках содержали смертельно опасный мышьяк. Все было отравлено – от ежедневно потребляемой пищи до питьевой воды. В то время, когда Листер попал в Университетский колледж, Лондон тонул в собственной грязи.
Находясь в эпицентре этого хаоса, жители пытались внести позитивные изменения в облик столицы. К примеру, у Блумсбери – района, в центре которого находился университет, где Листер провел студенческие годы, – была аура вымытого до чистоты младенца. Он постоянно развивался, разрастаясь с такой скоростью, что те, кто переехал сюда в начале века, едва могли узнать Блумсбери несколько десятилетий спустя. Когда молодой врач Петер Марк Роджет (позднее автор известного словаря, носящего его имя) переехал на Грейт-Рассел-стрит на рубеже веков, он упоминал чистый воздух и раскидистые сады, окружавшие его дом. В 1820-х архитектор Роберт Смёрк начал строительство нового Британского Музея на улице Роже. Возведение этого внушительного здания в духе неоклассицизма должно было занять двадцать лет, в течение которых какафония из звуков молотков и пил разрушала привычную тихую атмосферу Блумсбери, которой так наслаждались жители улицы Роже.
Университет возник как часть этого движения. Как-то приятным вечером в начале июня 1825 года будущий лорд-канцлер Великобритании Генри Бруэм вместе с несколькими реформаторами из числа членов Парламента сидели в таверне «Корона и якорь» на улице Стрэнд. Там они и задумали проект Университетского колледжа Лондона. Это должен быть институт, свободный от религии, и Университетский колледж стал первым учебным заведением страны, где студентов не заставляли посещать ежедневные службы в англиканской церкви (что полностью устраивало Листера). Позднее соперники из Королевского колледжа окрестили тех, кто посещал занятия в Университетском колледже, «отбросами-безбожниками с Гаэур-стрит» (имея в виду магистраль, проходившую на месте основания университета).
Учебный план нового колледжа должен стать столь же революционным, как и отделение от религии – так решили авторы проекта. Здесь преподавались как традиционные дисциплины (подобные тем, что имелись в Оксфорде и Кембридже), так и новые – география, архитектура, современная история. Медицинская школа имела особое преимущество перед двумя другими лондонскими из-за своей близости к Северному госпиталю (позднее переименованному в госпиталь Университетского колледжа), построенному спустя шесть лет после основания колледжа.
Многие высказывались против постройки университета в Лондоне. Сатирическая газета John Bull задавалась вопросом, уместно ли обучать молодое поколение в столь бурном городе, как Лондон. С присущим ей сарказмом, газета шутила, что «…вся лондонская мораль, спокойствие и целомудрие сольются воедино, чтобы сделать город наиболее подходящим местом для воспитания молодежи». Статья продолжалась описанием того, как колледж возведут в трущобах Тотхилл-филдс возле Вестминстерского Аббатства: «Дабы отмести все возражения, которые могут возникнуть у глав семейств по поводу дурного влияния многолюдных улиц на их сыновей, внушительная армия респектабельных пожилых леди будет ежедневно сопровождать учащихся по пути в колледж и обратно». Несмотря на все протесты и волнения, здание было построено и в октябре 1828 начало принимать студентов.
Университет все еще находился на этапе развития, когда Листер поступил туда в 1844 году. В то время существовало всего три факультета: искусства, медицины и права. В соответствии с желанием отца, Листер сперва получил степень в области искусства (сродни современному гуманитарному образованию, включающему в себя ряд курсов по истории, литературе, математике и наукам). Это был нестандартный путь в хирургию, поскольку большинство студентов в 1840-е пропускали этот этап, сразу окунаясь в медицину. Позднее широкое образование помогло Листеру связать научные теории с медицинской практикой.
Ростом в 178 см, Листер был выше большинства однокурсников. Те, кто знал его, отмечали рост и поразительную грацию, с которой он двигался. Красивый в традиционном для его возраста смысле – прямой нос, полные губы, волнистые темно-русые волосы – Листер обладал «нервической» энергией, которая ярко проявлялась в компании других. Гектор Чарльз Кэмерон (один из биографов Листера и его друг в последующие годы) так вспоминает первую встречу со знаменитым хирургом: «Когда меня пригласили в столовую, Листер стоял спиной к огню, держа в руках чашку чая… Сколько помню, он почти всегда был на ногах… а даже если и сидел в течение нескольких минут, то новый поворот в разговоре заставлял его вскочить».
Разум Листера был словно бурлящий водоворот. Когда он бывал смущен или взволнован, уголки губ дергались, и возвращалось преследовавшее его в детстве заикание. Несмотря на эту внутреннюю «турбулентность», Стюарт Галифакс описывал его как человека «неописуемой мягкости, граничащей с застенчивостью». Друг позднее напишет о Листере: «Листер жил в мире мыслей, скромном, безыскусном и непритязательном».
Листер был трезвенником, к тому же очень воспитанным. Люди его веры носили мрачные цвета и обращались к другим, используя устаревшие местоимения. Ребенком Листер был окружен морем черных пальто и широкополых шляп, которые мужчины его семьи не снимали даже во время церковных служб. Женщины одевались в простые одежды, повязывали вокруг шеи сложенные платки, а на плечи набрасывали незамысловатые шали. Они носили шляпки из белого муслина, более известные как «угольные чепчики». Когда Листер отправлялся в университет, он надевал одежду сдержанных цветов из уважения к своей вере, что без сомнения выделяло его среди модных однокурсников не меньше, чем рост.
Вскоре после поступления в Университетский колледж Листер поселился в доме № 28 по Лондон-стрит прямо возле университета. Он делил жилье со своим приятелем-квакером по имени Эдвард Палмер, который был восемью годами старше Листера. Палмер на самом деле работал ассистентом у Роберта Листона; знакомые описывали его как «человека скованного ума, но неизменно проявляющего энтузиазм в деле хирургии». Вскоре эти двое стали друзьями. Частично благодаря влиянию Палмера Листер смог оказаться в числе свидетелей того самого исторического эксперимента с эфиром 21 декабря 1846 года. То, что Листер был там, подразумевает, что он не единожды посещал медицинские лекции; маловероятно, что великий Листон приметил бы его в тот день, если бы они уже не были знакомы ранее. Листер начал изучать анатомию за несколько месяцев до того, как получил диплом бакалавра гуманитарных наук. В его бухгалтерских книгах за последний квартал того года фигурирует покупка «щипцов и заточенных ножей», а также уплата 11 шиллингов таинственному «У.Л.» за часть тела, которую Листер затем препарировал. Стремление молодого Листера к медицине было очевидно всем, кто знал его в те годы.
У Эварда Палмера присутствовала и темная сторона личности, не лучшим образом сказавшаяся на Листере. В 1847 двое мужчин переехали в дом № 2 по Бедфорд-плейс на площади Амптхилл, и к ним присоединился Джон Ходжкин – племянник знаменитого Томаса Ходжкина, который первым описал редкую форму лимфомы (сейчас она носит его имя). Семьи Ходжкина и Листера давно дружили, скрепленные общим религиозным мировоззрением. Оба мальчика посещали Грув-Хаус – школу-интернат в Тотенхеме, где в расширенную учебную программу кроме классических предметов входили математика, естественные науки и современные языки. Ходжкин, который был на пять лет младше Листера, обозвал их комнаты на площади Амптхилл «мрачными», а самих сожителей «слишком зрелыми и серьезными», отчего их жизнь казалась «депрессивной, полной безрадостных моментов». Впервые посетив Университетский колледж, Ходжкин не был столь увлечен Эдвардом Палмером, как его друг детства. Молодой человек отзывался о Палмере, как о «существе любопытном… своеобразном… без сомнения странном человеке». Хотя Палмер был весьма набожен, Ходжкин не связывал его странное поведение с религией. Самым тревожным стал тот факт, что чем больше Листер жил под влиянием Палмера, тем более замкнутым он становился. Кроме посещения лекций Листер, казалось, стал проявлять гораздо меньше интереса к внеучебной деятельности, предпочитая все время работать в довольно мрачной обстановке. Позднее Палмер станет столь неуравновешенным, что закончит свои дни в психиатрической лечебнице, так что вряд ли он оказывал благоприятное влияние на начинающего хирурга. Ходжкин предостерегал друга, говоря, что считает Палмера «не слишком подходящим компаньоном даже для Листера».