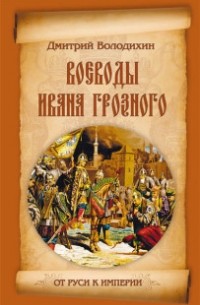Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Молодость
Князь Иван Фёдорович Мстиславский приходился двоюродным племенником Ивану Грозному. Принадлежность к высокому роду, кровь государей, текшая в его сосудах, поднимали князя высоко над большинством русских служилых аристократов и бесконечно высоко над многотысячной массой дворянства.
Царь Михаил Фёдорович и бояре.
На протяжении долгой жизни своей Иван Фёдорович дважды вступал в брак, и оба раза происхождение невест должно было соответствовать высокому статусу жениха. Иными словами, он был очень ограничен в выборе суженой… Что поделаешь: положение обязывает! Первой его супругой стала дочь князя А.Б. Горбатого-Шуйского из дома Суздальских князей. Звали ее Ирина, или, как тогда писали, Орина. От нее родился наследник князя и «преемник» его власти и влияния при дворе, Фёдор. Он был лишен честолюбия отца и его способностей. Однако Иван Фёдорович позаботился о том, чтобы сын его не потерпел ущерба в статусе. Первая жена Ивана Фёдоровича была в высшей степени «достойна» его по уровню родовитости: в 1547 г. ее призвали для участия в свадебном празднестве, когда брат царя, князь Юрий, женился на Ульяне Палецкой. Это была большая честь… Иван Фёдорович женился очень рано и прожил с супругою лучшие годы жизни. Она скончалась в 1566 г. После смерти Орины Горбатой князь, еще совсем не старый человек, женился на Анастасии Воротынской, родной племяннице другого знаменитого полководца – кн. М.И. Воротынского. Вторая жена не уступала первой в родовитости. Воротынские вышли из Черниговского княжеского дома и сохранили колоссальный удел, по сравнению с которым даже богатые вотчины Мстиславских выглядели жалкой пустошью. Сестра Анастасии в будущем станет царицей, – когда на русский трон взойдет первый и единственный Шуйский, ее муж, князь Василий Иванович…
По этим бракам – а они не составляли какого-то исключения, – видно: высшая аристократия стремилась сохранить определенную замкнутость, не выпускать власть за пределы узкого круга родов. Иван Фёдорович обязан был блюсти аристократический обычай, хотел он этого или нет.
Очевидно, князь стал поздним ребенком. Дата и год рождения его неизвестны, как впрочем, и у подавляющего большинства русских полководцев XVI столетия. Но кое о чем можно догадаться по косвенным признакам.
Последнее командное назначение он получит в 1580 г. Именно тогда князь выступит в свой последний поход. В дальнейшем он, очевидно, по ветхости лет, уже не мог водить полки, а потому оставался в Москве. Сколько лет ему было тогда? Пятьдесят? Или, может быть, шестьдесят? С точки зрения XVI века – очевидная старость. Военачальник на седьмом десятке – явный нонсенс… Выходит, Иван Федорович мог родиться где-то между 1520 и 1530 гг. До смерти отца в 1540 м его не видно и не слышно. Нормальное положение – род представлен на государевой службе прежде всего старшим человеком. Но и после того, как скончался отец Ивана Федоровича, на протяжении долгих лет его нет в разрядах. Значит, он не служит. А вот это уже непорядок. Честь рода можно поддержать только пребыванием на военных и придворных чинах. Если никого из Мстиславских не видно, значит, род теряет влияние, – ситуация крайне неудобная! Ее может объяснить только одним: наследник еще очень юн. Рано мальчику на службу… А значит, он вдоволь накушался горького хлеба безотцовщины. И совсем немногому успел научить его родитель в трудной науке войны и управления людьми.
Лишь в 1547 г. Мстиславский в качестве рынды (оруженосца-телохранителя) сопровождает молодого царя в походе под Коломну. Это служба для молодых парней. Известно, как уже говорилось, что к тому времени он был женат. Отсюда можно сделать вывод: Иван Федорович родился в конце 1520х или в самом начале 1530х гг. Ивану IV он должен считаться ровесником.
Молодой человек очень хорошей крови сделал фантастическую, головокружительную карьеру. Такая карьера присниться не могла Дмитрию Ивановичу Хворостинину, и даже более высокородный Шуйский продвигался в чинах куда медленнее.
Юный Мстиславский еще в один поход отправился рындой, а в третьем, под Казань… числится воеводой и боярином. Ему около двадцати лет. В окольничих, т. е. ступенькой ниже, князь не бывал, сразу поднявшись к высшему рангу служебной иерархии. Итак, ему около двадцати лет, а выше двигаться некуда. Боярином Мстиславского сделали в 1548 или 1549 г.
Более того, в самом начале военной карьеры он оказывается на вершине военной иерархии, а не только думной. В 1549 г. его ставят первым дворовым (или, иначе, «дворцовым») воеводой в походе против казанцев. Иными словами, дали ему под команду «государев полк». Между тем в русской полевой армии того времени высшими должностями считались именно посты первого воеводы большого полка и первого воеводы государева полка.
Первые походы стали для Мстиславского хорошей и, к счастью, относительно безопасной школой. Больших сражений с татарами тогда не произошло. Он постепенно восполняет пробел в знаниях о военном деле, которые не мог получить из-за ранней смерти наилучшего наставника – отца.
Русская военная элита времен царствования Ивана Грозного выросла на войнах с татарами. Боевых столкновений с западными соседями в первую половину правления почти не было. В середине 1530х отгремела краткая Стародубская война с литовцами, да и всё, пожалуй. А вот угроза нападений со стороны казанцев, крымцев и ногайцев постоянно нависала на южными и восточными границами. Малые набеги в ту пору были частью повседневной жизни русской земли. Их ждали всегда. Тело русского государства можно уподобить пистолету, снятому с предохранителя. Оно готово было выстрелить полками на юг или на восток в любой момент. И первые десять лет службы молодого Мстиславского связаны были со степными пространствами, где летом в высоких травах таились банды крымских работорговцев, а зимой, по мерзлой корке застывших рек, бросалась терзать Россию казанская конница.
Воображаемый облик Гедимина, восходящий к изображению в хронике Алессандро Гваньини «Описание европейской Сарматии» (XVI век)
В 1550 и 1551 гг. он сидел первым воеводой в Туле и Пронске, поджидая неприятеля. В таком ожидании, сменявшимся стремительными бросками и жестокими боями, пройдет бульшая часть его жизни. Для разнообразия иногда его будут отправлять на Ливонский фронт, но… к нему и отношение у русской аристократии было другое. Ливонскую войну знатнейшие люди России считали чем-то не совсем обязательным. Дворянство искало там добычи, славы, новых поместий с трудолюбивыми местными землепашцами. Знать водила полки, подчиняясь воле царя. Но все-таки в Ливонию очень долго, примерно до времен Батория, больше ходили «погулять». Пограбить, прибрать тамошние городки «на великого государя». До Батория Ливонский фронт играл роль «поля чудес» для русской армии. От боевых действий в тех местах ждали побед и поражений, но все-таки не ждали смертельно опасной, тяжелой, бесконечно рискованной службы на границе с воинственной степью. Юг всегда был страшнее. Там смертушка то и дело заглядывала в самые очи. Если запад обещал лучшим честь и богатство, то юг для всех без различия был тяжелой работой, необходимой для выживания всего русского народа