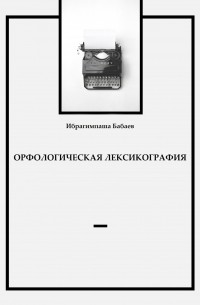Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1.2. Место орфологического словаря в лексикографии
Статус орфологического словаря определяется местом орфологии в контексте лингвистических исследований. Орфология – это отрасль лингвистики, занимающаяся сбором и анализом устойчивых отклонений от существующих норм литературного языка. Подобное употребление термина орфология вводится в настоящей работе. До сих пор под орфологией/ортологией понималась наука о литературном языке как культурной и обработанной форме национального языка. К орфологическим словарям относились почти все существующие типы словарей, включая обычные толковые. К орфологическим пособиям, по мнению исследователей, относятся учебники, грамматики, различные труды по культуре речи [21, 28-43].
Необходимость лексикографической фиксации речевой ошибки не воспринимается однозначно. Нередко преподаватели русского языка, интеллигенты, занятые в различных сферах умственного труда, высказывают сомнения в целесообразности введения в словари ошибок. Зачастую исходят из того, что словарь должен давать только правильное, ориентируя тем самым читателя на норму.
Несмотря на то, что словари неправильностей существовали уже в позапрошлом столетии, теоретически мысль о необходимости помещения в лексикографических источниках речевых ошибок была обоснована академиком Л.В.Щербой.
Л.В.Щерба считал, что в речи не может быть ничего случайного, а то, что воспринимается как случайное, так или иначе социально обосновано. Речевые ошибки, не останавливающие на себе вашего внимания, кажущиеся мимолетными и совершенно случайными, на самом деле представляют собой продукт системы и обязательно должны изучаться. Таким образом, речь идет о сборе и анализе речевых ошибок.
В своих рассуждениях о социальной обусловленности речевых ошибок и о полезности включения их в словари Л.В.Щерба, на наш взгляд, допускает одну неточность. Он предлагает включать речевые ошибки в нормативные словари, где им действительно не место. Это тем более странно, что уже в XIX в. существовали попытки создания специальных словарей неправильностей.
Как отмечал неоднократно и сам Л.В.Щерба, теория лексикографии в его время была совершенно не разработана. Именно по этой причине и была им написана статья под названием «Опыт общей теории лексикографии». На наш взгляд, теория лексикографии далека от стройности и в настоящее время. Об этом, в свою очередь, свидетельствует и отсутствие четкости в разграничении принципов нормативной и ненормативной лексикографии, отнесение различными учеными одних и тех же словарей к разным типам лексикографических источников.
Видимо, одним из основных принципов теории лексикографии должен считаться принцип необходимости деления словарей на общие и тематические. Если тематические словари посвящены сбору и подаче материала, систематизированного в определенном аспекте, то общие словари состоят из корпуса лексем, которые описываются с точки зрения всех актуальных для слова параметров. Такими параметрами должны считаться написание, произношение, грамматическая характеристика, стилистическая характеристика, дефиниция, манифестирующая его семантическую структуру, а также факты употребления, свидетельствующие о справедливости и корректности представленной дефиниции. Общие словари описывают лексические единицы по той причине, что именно лексическая единица является центральной единицей языка.
Деление словарей на общие и тематические опирается на одно условие, а именно – объединяются языковые единицы в словаре по каким-либо признакам или нет. Например, толковые словари русского литературного языка являются общими словарями. Считается, что существует четыре такого рода словаря, изданных в советское время. Это словари Д.Н.Ушакова, С.И.Ожегова, а также два академических: 17-томный и 4-томный, так называемые Большой и Малый академические словари. В постсоветское время вышло много разных словарей, можно даже сказать, что издание самых разных словарей вплоть до словарей нецензурной лексики составляет самое популярное и активное лингвистическое дело. Однако авторитет указанных четырех словарей достаточно высок и вряд ли подлежит сомнению. Было предпринято новое 20-томное издание Большого академического словаря.
Все эти четыре словаря являются словарями литературного языка и отражают норму, включая и норму предшествующих эпох, поскольку нормативный словарь обязан описывать лексику классического периода. Классическим же периодом и сегодня остается литература от Пушкина до Толстого и Чехова, т.е. крайним нижним пределом для классической литературы остается Пушкин.
Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологических единиц, частотные, обратные, словообразовательные и другие частноцелевые являются тематическими словарями. Все справочники типа «Слитно или раздельно» являются тематическими словарями, так как призваны ответить на один вопрос.
Второй принцип деления лексикографических источников связан с отношением материала к культурной традиции, к той форме национального языка, которую принято называть литературным языком. Данный принцип может разграничивать все словари. Например, фразеологический словарь может содержать все фразеологизмы национального языка, но может включать исключительно факты литературного языка. Возможен и третий вариант, когда словарь описывает фразеологический фонд того или иного наречия или городского просторечия.
При делении словарей по отношению материала к культурной традиции актуальными оказываются три типа источников. Первый тип – это словарь-тезаурус. Такой словарь включает как нормативные, так и ненормативные средства. В идеале такой словарь отражает все средства национального языка.
Второй тип лексикографического источника отражает культурную традицию. В идеале в нормативном словаре должны помещаться только средства литературного языка. На практике мы видим, что в нормативные словари с различными пометами входят также диалектные и просторечные единицы.
Орфологический словарь противостоит нормативному словарю как противоположная часть тезауруса. Орфологический словарь описывает языковые средства, с точки зрения нормы, считающиеся отклонениями. Разумеется, при этом описание речевых ошибок, отклонений от нормы не является самоцелью для орфологической лексикографии. В орфологическом словаре происходит как бы сопоставительная интерпретация нормы и ненормы, что в конечном счете должно убедить в оптимальности нормы как языкового средства, выполняющего определенную функцию.
Поскольку орфологический словарь дает описание ненормы, объясняет ее ущербность по сравнению с нормой, интерпретируемой параллельно с отклонением, он носит не только синхронический, но одновременно и диахронический характер. Чисто синхронический характер носит нормативный словарь, в задачи которого входит подача корпуса норм. В силу динамического характера нормы нормативная система постоянно эволюционирует. Следовательно, словарь, фиксирующий норму по какому-либо уровню языка, дает описание статическое, фиксирует момент. В отличие от нормативного словаря, носящего синхронный характер, орфологический словарь, вскрывающий соотношение нормы и ненормы, дает возможность увидеть воочию динамику нормы. Если мы будем располагать орфологическими словарями, созданными, скажем, на протяжении 200 лет, то мы сможем увидеть конкретно процесс формирования литературного языка, конкретику его демократизации, смены тенденций и т.д. Располагая орфологическими словарями и небольшого отрезка времени, исследователи будут в состоянии судить о прошлом нормированной формы национального языка и ее перспективах. Таким образом, орфологический словарь, в отличие от нормативного, носит синхронно-диахронический характер.
Нормативный и орфологический словари могут быть противопоставлены еще в одном аспекте. Это противопоставление обосновано функционально. Поскольку целью нормативного словаря является описание системы норм, по отношению к нормированному языку он является абсолютным. Напротив, орфологический словарь по отношению к норме носит опосредованный, относительный характер. Он создается для описания того, что норме противостоит, в этом его цель. Но подав ненорму и сравнив ее с нормой, орфологический словарь должен убедить в оптимальности последней.
Следует оговорить еще один момент. Существует глубокая разница между вышеотмеченными рассуждениями академика Л.В.Щербы о полезности включения речевых ошибок в нормативный словарь и сущностью имеющихся словарей правильностей, неправильностей и трудностей. Эти словари не объясняют ненорму, не сравнивают ее с нормой, они просто дают то и другое. Смысл высказываний Л.В.Щербы о социальной обусловленности речевых ошибок предполагает интерпретацию этих ошибок в социально-языковом плане. Именно этот момент делает орфологические словари весьма ценными источниками по истории литературного языка. Речь идет не о существующих словарях правильностей/неправильностей, а об идее орфологической лексикографии. В противном случае задача этих словарей оказывается максимально суженной. Так, А.М.Цывин считает, что словари правильностей имеют узко прагматическую направленность. Однако понятно, что наш подход к целям и задачам орфологической лексикографии выходит далеко за рамки прагматики. С другой стороны, все словари правильностей, неправильностей и трудностей, действительно, являются лишь узко прагматическими. Это еще одно свидетельство того, что идея орфологической лексикографии не нашла до сих пор практического воплощения. Что же касается рассуждений А.М.Цывина и других исследователей, то все они исходят из существующего лексикографического опыта, но вовсе не из теоретических построений и вытекающей из них необходимости. В чрезвычайно дробной классификации словарей русского языка словари трудностей относятся к функциональным: «Двусторонние непереводные пояснительные функциональные словари раскрывают функциональные характеристики слова – частотность слова (Штейнфельдт) или стилистическую функцию (Грамматич. правильность …, Трудности…). Двусторонние формопоясняющие словари должны давать полную грамматическую характеристику слова или объяснять его форму, орфографическую и произносительную (Зализняк). Чисто объяснительных (толковых) словарей не существует. Наиболее близок к этому типу словарь Даля. Обычно же толковый словарь снабжен достаточно подробными сведениями о произношении, стилистическом употреблении, грамматических характеристиках» [134, 102].
А.М.Цывин считает, что чисто объяснительных словарей не существует. Следует отметить, что сам фактор объяснения имеет достаточно широкий диапазон реализации. Например, где критерий начала и конца того описания, которое подпадает под определение объяснительный? Стилистическая или грамматическая помета в функциональном и содержательном отношениях вполне может быть отнесена к объяснению. Ведь стилистическая характеристика слова есть не что иное, как фрагмент его содержания. Иными словами, под объяснением нельзя понимать только толкование его значения.
В этой же работе А.М.Цывин указывает, что «Нормативные словари дают семантическую, грамматическую, акцентологическую, экспрессивно-стилистическую и валентностную характеристику слов в соответствии с действующей нормой, определяющей образцовое употребление языковых средств и упорядочивающих речевую деятельность носителей данного языка. Характерная особенность нормативного словаря – развитая система предписывающих помет и отбор слов на основании строгого критерия» [134, 106].
Тут следует сказать, что и чисто нормативных словарей также не встречается, так как любой словарь, претендующий на звание нормативного, вынужден фиксировать и ненорму. Конечно, в том случае, если это словарь живого языка. Суть проблемы в том, что любой словарь должен быть востребован в качестве справочника по определенному количеству текстов той или иной эпохи. В этом смысле он должен удовлетворять критерию полноты. Адресату текстов определенной эпохи в общем-то безразлично относят или нет лексикографы те или иные слова к системе норм или нет.
Таким образом, при делении словарей по принципу общий-тематический орфологические словари, безусловно, оказываются тематическими. Иными словами, это справочники, отвечающие на определенный вопрос. При делении, основывающемся на отношении к системе норм, орфологический словарь оказывается антинормативным словарем. Он включает в себя ту часть тезауруса, которая противостоит системе норм. А это в основном диалекты и просторечие.
Может возникнуть вопрос о случайности ошибки, т.е. всегда ли речевые ошибки относятся обязательно к диалектам или просторечию. Несмотря на утверждение Щербы о социальной обусловленности речевых ошибок, может возникнуть вопрос: неужели в речи отдельных людей вообще не бывает совершенно случайных ошибок, не обусловленных социально, не предопределенных системой языка? Видимо, случаются и такие ошибки. Люди могут просто оговариваться. Такая ошибка может быть даже следствием определенного дефекта речи. В этом случае она не изучается орфологией. Кроме того, если речевая ошибка действительно случайна и носит единичный характер, то она не интересует орфологию. Орфология является наукой, изучающей именно устойчивые и запрограммированные языковой системой отклонения от нормативного языка. Следовательно, они также, как и норма, системно предопределены. Таким образом, орфология изучает ту часть национального языка, которая коррелирует с системой норм, делая ее гибкой и динамичной. Именно в силу этого орфологический словарь дает возможность прогнозировать.
Необходимо отметить, что указанные выше деления словарей по двум принципам, разумеется, не охватывают всех типов словарей. Прежде всего, здесь не учитываются энциклопедические словари, а также из лингвистических – двуязычные. При этом преследуется одна цель – точнее определить место орфологических словарей. Таким образом, место орфологического словаря определяется в кругу одноязычных лингвистических словарей.
В то же время приходится делать существенную оговорку. Орфологические словари могут быть двух типов в зависимости от материала и предназначенности. Дело в том, что словари, объясняющие речевые ошибки, могут иметь двоякую направленность. Они могут быть направлены на интерпретацию отклонений от нормы в речи естественных носителей языка. Однако орфологические словари могут строиться на основе интерпретации устойчивых ошибок, характерных для речи иностранцев. Если в первом случае орфологический словарь описывает ту часть национального языка, которая противостоит системе норм, а сами нормы даются на фоне соответствующих ненорм, то во втором случае орфологический словарь строится на материале сопоставительных исследований. Здесь выявляются устойчивые участки интерференции, и с этих позиций объясняются случаи отклонения от норм второго языка.
Понятно, что как материал, так и принципы орфологических словарей в этих двух случаях расходятся. Во втором случае, т.е. когда речь идет об орфологическом словаре для иностранцев, систематизируются законы родного языка говорящих, устойчиво интерферирующие в иностранном языке. Причем такого рода ошибки в речи иностранцев также носят системный характер, что непосредственно обусловлено системностью закономерностей родного языка.
Понятно, что как материал, так и принципы орфологического словаря в этих двух случаях расходятся. Во втором случае, т.е. когда речь идет об орфологическом словаре для иностранцев, такой тип словаря имеет, действительно, только прагматическую направленность. Другое дело, что он строится на серьезном аналитическом материале.
Таким образом, формирование идей и концепции орфологической лексикографии не является случайным. Напротив, они столь же закономерны, как и идеи тезауруса и нормативного словаря.
Практическое осуществление принципов орфологического словаря может столкнуться с известными трудностями. Такие же трудности стоят и перед осуществлением идей тезауруса и нормативного словаря. Тезаурус живого языка почти невозможно создать, так как практически невозможно охватить все богатство того или иного языка. Если даже не иметь в виду все написанное и сказанное на этом языке, то довольно сомнительно охватить всю лексику, фразеологию, поговорки, пословицы, устойчивые словесные комплексы различного объема и сложности. Например, тезаурус латинского языка до 600 г., издаваемый немецкими учеными, столкнулся с такими трудностями, что за 40 лет авторы смогли дойти лишь до буквы М. Академик Л.В.Щерба по этому поводу пишет следующее: «Когда говорят thesaurus, то нынче у нас чаще всего имеют при этом в виду «Thesaurus linguae latinae», предприятие пяти немецких академий, начатое еще в 1900 г. и до сих пор доведенное с пропусками лишь до буквы М. Характерная особенность этого типа словарей состоит в том, что в них приводятся все решительно слова, встретившиеся в данном языке хотя бы один раз (т.е. и все так называемые hapax’ы), и что под каждым словом приводятся решительно все цитаты из имеющихся на данном языке текстов (в «Thesaurus linguae latinae» – до 600 г.). В основе вышеуказанного противоположения лежит противоположение «языкового материала» и «языковой системы» – понятия, которые я пытался обосновать в своей статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» [146, 281].
С такими же сложностями, как правило, сталкиваются и создатели нормативных словарей. Практически не удается создать словарь чисто нормативных средств. Так или иначе в нормативном словаре оказываются диалектные слова. Основанием для этого является мысль о том, что они устойчиво встречаются в языке художественной литературы. Довольно многочисленным является в нормативных словарях корпус устаревших слов. Считается, что независимо от степени архаизации слово должно помещаться в нормативный словарь, если оно часто встречается в языке классических произведений. Опыт свидетельствует, что в нормативные словари включаются также бранные и грубо просторечные слова. Таким образом, корпус нормативного словаря оказывается значительно разбавленным ненормативными средствами.
Создание орфологического словаря не должно столкнуться с большими трудностями, чем создание тезауруса и нормативного словаря. В любом случае материал орфологических словарей должен опираться на серьезную исследовательскую работу по систематизации и интерпретации речевых ошибок. Соответственно орфологический словарь для иностранцев должен иметь основательную базу контрастивных и лингвистических исследований. Но все трудности, стоящие на пути осуществления идеи орфологического словаря, не противоречат логике его создания. Точно так же, как трудности, стоящие перед тезаурусом и нормативным словарем, не могут убедить в ненужности этих словарей. Известно, с каким непониманием сталкивалось создание таких словарей, как словарь В.И.Даля и словарь Я.К.Грота. Характерно, что первый претендовал на статус словаря-тезауруса, в то время как второй представлял собой опыт нормативного словаря.