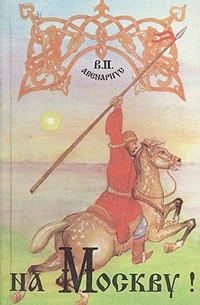Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава девятая. Гордиев узел
Второй день уже Курбский отбывал свой домашний арест. Кушанья ему присылались с гетманского стола на серебряных тарелках; не забывались даже обычные «заедки»: цукаты, марципаны, шептала, имбирь в патоке… Но Курбский едва к чему прикасался.
Снова наступил вечер, и Курбский, засветив свечу, раскрыл Евангелие, с которым не разлучался даже в походе. Не раз уже в святых поучениях нашего Искупителя находил он душевное успокоение и утешение. Теперь же мысли его с большим трудом следовали за тем, что читали глаза, и стоило ему закрыть глаза, как перед ним, точно наяву, являлось милое девичье личико, но бледное, скорбное и орошенное слезами. Он насильно отгонял от себя дорогой ему образ и принимался опять читать, принуждая себя всей силой воли вникать в деяния и слова Христовы. Как всегда, и на этот раз они постепенно оказали на него благотворное действие. Он, наконец, до того отвлекся от действительности, что не расслышал, как открылась за ним дверь, не заметил, как кто-то приблизился к нему тихой, кошачьей поступью. Только когда вошедший слегка тронул его за плечо, он вздрогнул и приподнял голову. Перед ним стоял старший из двух духовных советчиков царевича, патер Николай Сераковский.
– Сидите, сидите, сын мой, – заговорил патер ласково-грустным тоном, пододвигая себе другой стул. – Вы, я вижу, ищете последнее refugium (убежище) в Святом Писании? Ах, да! Земное счастие – неверный друг, несчастие же – честный враг, благодаря коему сколько заблудших обращается на путь истины!
Курбский давно убедился в двуличности этого, как он знал, тайного иезуита, а потому холодно прервал его вопросом, чему он обязан честью его посещения.
– Но без глубокой веры все-таки несть спасения, – продолжал Сераковский, точно не слыша его вопроса. – Ведь и вы, сыны греческой церкви, веруете в того же Всевышнего Бога, в того же Христа Спасителя, что и мы, приверженцы святого папского престола; для вас не менее, чем для нас, дорого слово Божье, особливо когда смертный час близок. Умирать и старикам-то тяжко, а в такие цветущие годы, когда жизнь еще улыбается, – о!..
Сердце в груди у Курбского сжалось, дыхание сперло.
– Что вы хотите этим сказать, преподобный отец? – спросил он. – Что и мой смертный час близок?
Патер устремил на него соболезнующий взор, но уклонился опять от прямого ответа: ему надо было подготовить почву для окончательного удара.
– Не все ли мы под Богом ходим? – сказал он. – Еще Сенека, мудрец седой древности, говорил: «Ты неизбежно умрешь, ибо родился», иными словами: всякий смертный с момента рождения приговорен к смерти. А в военное время приговор этот висит над каждым из нас Дамокловым мечом. Война – увенчанная лаврами фурия: а чего, скажите, ждать от фурии?
– Не мучьте меня, сделайте милость! – теряя терпение, вскричал Курбский. – Скажите просто: по решению военного суда я должен умереть?
Иезуит со вздохом утвердительно преклонил голову.
– Военное время! – повторил он, как бы в оправдание суровости приговора. – От измены, как от острой заразы, не может быть слабых средств. Quae medicamenta поп sanant, ferrum sanat; quae ferrum поп sanat, ignis sanat (чего не излечит лекарство, то излечит железо, чего не излечит железо, то излечит огонь).
– Но я не изменник!
– Об этом не мне судить; это – дело военного совета. В совет были приглашены все региментары (полковые командиры), и декрет состоялся единогласно: poena colli (смертная казнь).
– Единогласно! Но неужели и сам царевич тоже…
– Покровитель ваш, царевич Димитрий, и на сей раз выступил вашим речником (защитником); он требовал по крайней мере вашей интерпелляции (вызова для объяснения). Но – один в поле не воин, говорит ваша русская пословица; в конце концов и ему, увы! пришлось подчиниться общему постановлению.
Курбскому сдавалось, что перед ним разверзлась бездна, в которую его сейчас вот столкнут. В глазах у него потемнело, по телу пробежали мурашки. Но выказать упадок духа перед этим иезуитом, – ни за что! Он стиснул зубы и, немного помолчав, произнес уже довольно спокойно:
– Ну, что ж, значит, воля Божья! Меньше жить – меньше грешить. И когда же все кончится? Отсрочки никакой уже не будет?
– На походе диляция (судебная отсрочка) не применима. Если бы вы вышли теперь на улицу, то услышали бы за лагерем стук топоров.
Курбский вскочил со стула.
– Как! – вскричал он. – Меня хотят повесить? И царевич не мог выговорить для меня даже честную пулю?
– В этом отношении вам нечего беспокоиться, сын мой, – отвечал не без иронии патер, – вы – воин, и потому, согласно регламенту, умрете воинской смертью, но приговор вам все-таки прочтут у пренгира (позорного столба), сооружаемого рядом с виселицей.
– О, Боже праведный! Но виселица для кого же?
– А для вашего хлопца, который, правду сказать, обязан этим только вам.
– Но это ужасно, это такая вопиющая несправедливость!..
Курбский заметался по комнате, ломая руки.
– Вся вина его ведь в том, что он, по своему усердию, не по разуму перемудрил. Не его карай, Господи, а меня одного.
Патер Сераковский следил за своей жертвой глазами хищного зверя; но когда он теперь заговорил, то в медовом голосе его звучало как бы искреннее сочувствие:
– И мне беднягу этого сердечно жаль… Виноват ли он, что еще так молод, что послушен вам так рабски? Я охотно избавил бы его от петли. Но петля эта – в своем роде Гордиев узел: затянуть ее очень просто, развязать же – задача неразрешимая. Есть, правда, одно последнее средство…
Курбский быстро повернулся и подошел к иезуиту.
– Какое средство, преподобный отец? Говорите!
– Средство, признаться, довольно-таки решительное…
– Все равно, говорите, говорите.
– Он – схизматик.
– Да, как и я, он исповедует православную веру.
– По нашему же – схизму. Отрекись он от православия, перейди в лоно единой истинной, апостольской церкви…
– Этого он не сделает! – горячо прервал Курбский.
– Сам от себя, пожалуй, и нет: для этого он слишком еще глуп.
– Так через кого же?
– Через своего господина.
– Через меня? И вы можете думать, что я стану другого уговаривать отказаться от моей же родной веры?
– Зачем уговаривать? Покажите ему пример: пример ваш был бы для него законом; и спасли бы вы как вашего слугу, так и себя самого.
– Чтобы я по доброй воле отказался от спасения души ради спасения жизни?!
– Никто этого от вас и не требует, сын мой.
– Да не сами ли вы сейчас?..
– Указывал вам средство к спасению вашей жизни, – да. Но то же средство должно спасти и вашу душу. Ведь сколько миллионов людей признают власть римского первосвященника, в том числе немало, конечно, людей столь же просвещенных, как и вы. Сам царевич Димитрий, как небезызвестно вам, признал эту духовную власть.
– С чем я доселе не могу примириться! – вставил опять Курбский.
– И напрасно: с неизбежным должно мириться. Не знаю, дошло ли уже до вас (в то время вы были ведь в отсутствии), но теперь, перед вечной разлукой вашей с земной жизнью, не скрою от вас: его царское величество, перейдя в латинство, с тем вместе дал тайный обет, закрепленный его подписью, не препятствовать нам, ратоборцам латинства, распространять наше учение по всей земле русской. Московские царедворцы, без сомнения, не преминут тотчас же принять веру своего государя, и что же останется вам, его другу, как не сделать то же?
– Я-то ни в каком случае этого не сделаю! – воскликнул Курбский. – Но и насчет других русских вы сильно, думаю, ошибаетесь: русский народ свято чтит все старые обычаи предков, а тем более свою родную веру…
– Это, впрочем, еще далеко впереди, – перебил патер, – и будущее покажет, кто из нас был прав: вы или я. Как бы там ни было, к вам я зашел теперь с ведома самого царевича: ему очень, кажется, дорога ваша жизнь; но своею властью прибавить вам он не может и часу времени. Жизнь ваша, как видите, висит на волоске; к утру волосок оборвется…
– И пускай! Я умру, по крайней мере, с чистой совестью, в родной моей вере.
– А смерть хлопца ничуть не потревожит вашей совести?
Курбский на минутку задумался, но только на минутку.
– Хлопец мой не умрет, – сказал он убежденно. – С моей смертью он не будет уже ничем связан, и вы узнаете от него всю истину.
– Если мы ему поверим! – возразил Сераковский.
– Не вы, так царевич поверит. Я оставлю ему на всякий случай еще письменное признание, а такому посмертному признанию он не может не поверить. Но времени для этого, простите, осталось у меня очень немного; а потом мне надо еще последние часы жизни побеседовать с Богом.
С этими словами Курбский приподнялся с места, давая тем понять, что считает разговор оконченным.
Патер не мог не видеть, что дальнейшие убеждения будут бесплодны.
– До сих пор, любезный князь, я уважал вас стойкостью воина, а теперь уважаю и стойкостью христианина, – произнес он с глубокой, по-видимому, искренностью, также вставая и протягивая Курбскому на прощанье руку. – Тем больнее мне, что вы не такой же христианин, как я сам. Быть может, вы пожелали бы все-таки несколько ближе ознакомиться с главными началами апостольской церкви? Со своей стороны я приложил бы все старания, чтобы на сей конец исполнение приговора было на день, на два отсрочено…
– Благодарствуйте, – сдержанно поблагодарил Курбский. – Но мои ближайшие родственники: мать, брат и сестра – католики, а потому мне хорошо известно различие между их верой и моею, которую я один из всей нашей семьи исповедую после моего покойного родителя. В этой же вере я и умру.
– Вольному воля! Вы сами затягиваете свой Гордиев узел.
Иезуит был, очевидно, крайне раздосадован своей неудачей. От Курбского он прошел прямо к Димитрию, который уже ждал его и встретил словами:
– Ну, что, убедили?
– Увы! Все мои аргументы отскакивали от него, как от каменной стены.
– Я так и знал! А между тем он мне теперь нужен более, чем когда-либо прежде…
– На что, государь, смею спросить.
– Я собирался послать его в Москву…
– Не с эпистолией ли к узурпатору вашего престола?
– Да, к Годунову: может быть, мне все же удалось бы убедить его, что Божьим Промыслом я спасся от убийц в Угличе…
– От тех, которых он сам подослал? – с иронией добавил патер.
– Зачем колоть ему этим глаза? Если он в том повинен, то внутренний голос ему это и без того подскажет.
– Ну, знаете, ваше величество, полагаться на чужой внутренний голос – в наши времена довольно трудно.
– Но я еще объявлю ему, что не сложу оружия, доколе не воссяду на престол моих предков; что благо русского народа столь же дорого, если не дороже, чем ему самому, но что в последней битве пало русских четыре тысячи человек, и кровь их вопиет к небу…
– Все это так, да тронет ли его черствое сердце?
– Оно не черство, clarissime: о народе своем он печется всеми мерами.
– Печется затем, чтобы народ его ценил и не вырвал скипетра у него из рук. Кто изведал раз прелесть власти, тот, поверьте мне, отказаться от нее уже не в силах.
– Быть может, вы и правы… – проговорил задумчиво Димитрий. – Во всяком случае, я хотел бы испытать еще этот миролюбивый путь, чтобы упредить новые потоки крови. И вот для этого-то дела мне нужен такой преданный человек, как Курбский.
– Ваше величество по-прежнему еще верите в его преданность?
– Сердцем все еще верю, clarissime, наперекор даже уму.
– Но ум все-таки заставляет вас сомневаться в нем? Если же так, то не безрассудно ли, согласитесь, давать ему столь важное поручение? И будто у нас здесь не имеется для того других людей, вполне уже верных и вдвое опытнее?
– Кто, например?
– Да хоть бы коллега мой, патер Лович. За него-то я отвечаю, как за самого себя. Кстати же на него можно было бы возложить тогда и другое поручение, еще более ответственное, на случай, что первое не увенчалось бы желанным успехом.
– Да что может быть еще ответственнее?
– А изволите ли видеть…
Иезуит опасливо оглянулся кругом и подошел к двери, чтобы удостовериться, плотно ли она притворена.
– Дело вот в чем, – продолжал он, таинственно понижая голос. – Легат вашего величества, прибыв в Москву, был бы принят, конечно, в царском дворце. Между придворными чинами найдутся, без сомнения, и такие, которые не глухи к разумному слову и… звону золота. Ну, а если вскоре затем царь Борис волею Божьей внезапно захворает и отойдет в лучший мир (все мы смертны!), то цель наша будет достигнута сразу без пролития единой капли крови, и народ московский с радостью призовет к себе своего законного царя Димитрия.
В чертах Димитрия изобразились ужас и отвращение.
– Я не желаю понять вас! – сказал он. – Если Провидению угодно, чтобы я царствовал на Москве, то оно поведет меня туда своими путями без всякого насилия. Что тебе нужно? – обратился он к появившемуся в дверях гайдуку.
Тот доложил, что какая-то женщина Христом-Богом молит допустить ее к его царским очам.
– Женщина в нашем лагере! Да как ее вообще пропустили сюда?
– Не могу знать, государь. За темнотой, знать, проглядели.
– И откуда она?
– Господь ее ведает: имени своего не называет, сама платочком закрывается, чтобы не показать лица.
– Отведи-ка ее к пану Тарло: пусть ее допросит.
– Слушаю-с.
Но как только гайдук открыл дверь, чтобы удалиться, мимо него ворвалась в комнату сама просительница и упала к ногам царевича. При этом прикрывавший ее голову платок скатился на плечи, и оба: царевич и иезуит узнали в ней любимую фрейлину панны Марины Мнишек, Мусю Биркину. Димитрий был так поражен, что забыл даже о полном разрыве между двумя подругами. Первой мыслью его было, что фрейлина прислана к нему от его невесты с какою-нибудь ужасной вестью; а потому, выслав из комнаты гайдука, он поднял молодую девушку с пола и спросил ее, не из Самбора ли она.
– Нет, ближе, государь, – отвечала Маруся, устремляя на него умоляющий, полный отчаянья взор. – До меня дошел слух, что князь Михайло Андреич Курбский должен умереть, и вот… в Польше, я знаю… прощают даже самого закоренелого преступника, если найдется девушка, которая… которая согласна венчаться с ним.
– Правда, clarissime? – спросил Димитрий иезуита.
– У поляков, точно, есть старый закон такого рода, – подтвердил Сераковский. – Когда инкульпата ведут на казнь, и из толпы какая-нибудь девушка бросит ему полотенце, то провожающий его ксендз ведет обоих прямо к алтарю…
– И инкульпат возвращается к новой жизни – семейной! – подхватил царевич с прояснившимся лицом. – Так вы, пани, хотите возвратить моего друга к этой новой жизни?
– Да… ежели он сам только согласится… – пролепетала Маруся, вспыхнув мимолетным румянцем и потупляясь.
– А вот мы сейчас вызовем его сюда и спросим.
– Погодите, государь, – вмешался тут патер. – Вы упускаете из виду, что закон этот старый польский.
– Так что же? Мы в польском лагере…
– Но закон-то писан собственно для поляков, то есть для католиков; а вы, пани Мария, ведь схизматичка?
– Да, православная.
– И князь Курбский точно также. Поэтому воспользоваться вам обоим нашим законом можно не ранее, как перейдя в лоно нашей святой римской церкви.
– Но это невозможно! И князь Михайло Андреич наверно тоже не пойдет на это…
– Почему же нет? Он не останется глух к убеждениям своей прекрасной спасительницы, тем более, что и царственный друг его принял уже латинство…
Если иезуит последним своим доводом рассчитывал понудить царевича оказать и со своей стороны давление на решение Маруси, то ошибся в расчете. Димитрий нахмурился и отозвался отрывисто и решительно:
– Вера – дело совести каждого, житейские же законы для всех одинаковы. Поэтому и тот старый польский закон, о котором у нас речь, пригоден в польском лагере как для католиков, так и для православных.
Все дело в том, откуда взять нам сейчас православного священника…
– Сейчас, государь, нам и без того нельзя было бы венчаться, – заметила скороговоркой Маруся, снова краснея, – до Крещенья у нас, православных, свадеб быть не может.
– И то правда… Этакая ведь досада! А к Крещенью Михайло Андреич должен бы быть уже в Москве.
– В Москве? – подхватила, вся встрепенувшись, Маруся. – Ты, государь, посылаешь его в Москву?
– Да, с грамотой к царю Борису. Он ранен и для ратного дела пока все равно не способен.
– А мы с дядей тоже собираемся в Москву: дядя давно уже надумал перебраться туда к своему старшему брату…
– Вот и прекрасно! Там, значит, и повенчаетесь с князем по православному обряду.
– Summum juc – summa injuria! (высшая справедливость – высшая несправедливость!) – пробормотал Сераковский, которого должна была крайне огорчить такая неудача его замысла. – Мелких предателей вешают, а крупных награждают.
– Князь Михайло Андреич никогда не был предателем! – возразила Маруся с необычной у нее запальчивостью.
– Вы, пани, видно, не знаете, что он уличен в тайной переписке с Басмановым.
– С Басмановым? И вы сами читали эти письма?
– Перехвачено было только одно письмо Басманова на имя князя; но и то не могло быть прочтено, потому что переносчик успел бросить его в костер.
– И переносчик этот был хлопец князя, Петрусь Коваль?
– Да, Коваль.
– Так письмо это было вовсе не от Басманова, а от меня! Я писала князю, что мы с дядей собираемся в Москву, но не знаем, как пробраться через ваш польский лагерь. Коваль же был у нас в замке даже без ведома своего господина…
– Слава Богу! – с облегчением воскликнул царевич. – Стало быть, никакого предательства со стороны князя не могло быть.
– Никакого, конечно. Да и сам Коваль был у меня только по моему же делу.
– В таком случае и его казнить нет законной причины.
– Но ведь все это слова, ваше величество, одни слова, – возразил патер. – Надо их еще формально проверить…
– Полноте, clarissime. Кому, как не вам, сердцеведу, с одного взгляда проникать в человеческую душу. Взгляните же на эту молодую панну: ну, может ли этот чистый, ясный взор лгать и притворяться? Дорогой ей человек приговорен к смерти, – и она одна, в темноте, идет во вражеский стан, чтобы спасти безвинного. Все мы – сам пан гетман и весь военный совет – должны бы преклониться перед таким истинным геройством.
– Преклоняюсь и я, пани, – произнес патер с легким поклоном. – Но, сказав нам, что письмо к князю Курбскому было от вас, вы, надеюсь, не откажете удовлетворить наше любопытство и на счет того, каким путем вы пробрались сквозь нашу воинскую цепь?
– Этого, извините, я вам уже не скажу! – наотрез отказалась Маруся. – Но у меня, государь, была бы к тебе еще великая просьба…
– Повидать Михайлу Андреича?
– Да…
– Еще бы невесте не повидать жениха! А он то, я чай, как будет счастлив!
Появление царевича в сопровождении Маруси Биркиной не столько, впрочем, осчастливило Курбского, сколько ошеломило.
– Ну, что, Михайло Андреич, не ожидал? – заметил Димитрий, с улыбкой глядя на своего совершенно остолбеневшего друга. – Не хочу вам мешать, мои милые, наговориться.
И он оставил их одних. Опустившись на предложенный ей Курбским стул, Маруся, запинаясь, принялась рассказывать о том, как Петрусь Коваль был вчера у нее в замке и спасся каким-то чудом от погони; как нынче вечером Трошка принес из польского лагеря весть о готовящейся казни их обоих: господина и хлопца, и как она, Маруся, тем же потайным ходом тотчас прошла также сюда, в польский лагерь, чтобы избавить их от позорной смерти.
– И вот, слава Всевышнему, избавила… – закончила она свой рассказ, осеняя себя крестом, и слезы заглушили ее прерывающийся голос.
Курбский слушал ее все время молча, строго сжав губы и не поднимая глаз с полу.
– Ты плачешь, Марья Гордеевна, – заметил он теперь, – значит, что-нибудь верно не так. Ты не скрыла от них ничего?
– Ничего. Промолчала только про твой образок… Зачем им знать?
– Еще бы. А про письмо твое ко мне говорила?
– Говорила…
– И тогда они всему так и поверили?
– Не сейчас… Я сказала им еще… Не гневись, князь Михайло Андреич! Но без этого все было бы напрасно…
Она опять замялась, задыхаясь от стыдливого волненья.
– Да что же ты сказала им еще?
– Что ты… что я будто бы сговорена с тобой…
– Но как ты могла сказать им это! – возмутился Курбский. – Ведь ты хорошо знаешь, что я давно женат?
– Да они-то этого не знают. А есть такой старый польский закон, что даже приговоренного к смерти прощают, если какая-нибудь девушка готова идти с ним сейчас под венец.
– Но мне-то ведь нельзя опять жениться от живой жены!
– Да и не нужно. До Крещенья все равно не венчают; а царевич до тех пор посылает тебя с грамотой в Москву; я с дядей еду туда же, будто бы затем, чтобы там с тобой венчаться.
– А на самом деле?..
– На самом деле, чтобы постричься в монахини. Так лучше, князь, поверь, гораздо лучше! А теперь прощай…
И прежде, чем смущенный ее великодушием Курбский нашелся, что сказать, дверь захлопнулась за нею.
Так Гордиев узел, который не удалось развязать хитроумному иезуиту, разрубила одним ловким ударом слабая девичья рука.