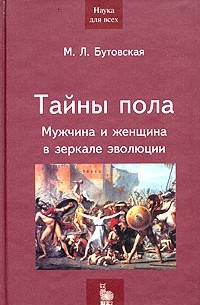Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 3. Неисповедимы пути полового отбора
Тайны полового отбора
Эволюция в направлении производства половых клеток разного размера сама создает новое селективное давление, которое способствует дальнейшей дифференциации двух морфо-типов гамет. Происходит это преимущественно потому, что протосамцы обладают более высоким репродуктивным потенциалом, чем протосамки. Больший репродуктивный потенциал протосамцов связан с их базовой способностью производить большое количество мелких половых клеток. Успех каждого из них определяется индивидуальным умением успешно находить гаметы протосамок. Протосамки же берут не числом половых клеток, а качеством (залог их успеха в выживании потомства кроется в самой гамете, богатой питательными веществами). Не существенен для них и поиск партнеров. Анизогамия создает селективное давление на протосамцов и протосамок, при котором происходит дальнейшая дифференциация по количеству энергии, вложенной родительским организмом в разные компоненты репродуктивных усилий. Отбираются те протосамки, которые прилагают максимум усилий по обеспечению максимальной выживаемости их немногочисленного потомства. Протосамцы, вносящие минимальный вклад в каждого отдельного потомка, отбираются на большее производство гамет. Они берут не качеством, а числом. Большое количество произведенных половых клеток гарантирует выживание хотя бы нескольких потомков, а этого оказывается вполне достаточно для того, чтобы гены конкретного протосамца были представлены в последующем поколении.
Сформировавшись единожды, мужской и женский пол в пределах популяции в дальнейшем коэволюционируют (то есть изменение в их облике и поведении происходит взаимосвязано, параллельно). Этот процесс и представляет собой особую форму естественного отбора и называется половым отбором. В отличие от других вариантов естественного отбора, селективное давление в рамках полового отбора различается в направлении мужского и женского пола. Каждый из нас многократно сам наблюдал реальные следствия такого дифференцированного действия отбора: половой диморфизм по размерам тела, окраске и поведению представителей одного вида.
Для многих насекомых типичен вариант полового диморфизма, при котором самки много крупнее самцов (богомолы, многие виды ос и жуков). Зато у многих видов птиц и млекопитающих тенденции прямо противоположные: самцы крупнее самок и более ярко раскрашены. Вспомним, переливающийся всеми цветами радуги хвост павлина или наряд самца у райских птиц (самки этих видов одеты в неприметные серо-коричневые наряды), или чудесную гриву у львов и павианов гамадрилов (самки много мельче и не имеют гривы) (Рис. 3.1; 3.2). Но далеко не все догадываются, почему природа «допустила такую несправедливость» в отношении самок.
Дифференциация особей в пределах вида по принципу производства крупных и мелких гамет привела к тому, что мужские и женские особи стали по-разному распределять свои репродуктивные усилия. Женские особи уделяли больше внимания заботе о потомстве, а мужские – поиску партнерши и получению доступа к ней. Вспомним, что у большинства млекопитающих (кошки, собаки, свиньи, олени, медведи, слоны, жирафы, гориллы, шимпанзе, орангутаны и др.) основная забота о детенышах ложится на плечи самки (Рис. 3.3; 3.4).
Рис. 3.1. У райских птиц самцы имеют значительно более эффектное убранство, чем самки. Они ярко раскрашены и часто имеют длинные плюмажи из хвостовых перьев. На этом фоне серенькие самочки выглядят неприметно.
Рис. 3.2. Павианы гамадрилы живут односамцовыми гаремными группами. В гареме одного самца бывает до восьми самок. (Фото М. Л. Бутовской).
Рис. 3.3. У горилл основная забота о детях ложится на плечи самки.
У большинства приматов самцы редко принимают непосредственное участие в воспитании потомства. В лучшем случае заботливый папаша исполняет роль защитника семейства, дает уроки «хорошего тона» (как, например, у павианов гамадрилов или горилл). В худшем – детеныши вовсе не знают кто их отец, поэтому отцовская забота для них – недостижимая мечта. Именно так обстоит дело в сообществах мартышек, макак, шимпанзе и бонобо.
Рис. 3.4. Самка орангутанга одна заботится о детеныше в течение многих лет. Роль самца сводится к охране территории.
Правда, интерес к детенышу в полигамных группах приматов самцы все же проявляют. У саванных павианов (анубисов, чакма, бабуинов) и у макаков (бурых, яванских, резусов, тонкинских) самцы друзья матери допускаются к детенышу. Матери позволяют им касаться и груминговать (чистить) малышей, а также играть с ними, когда те немного подрастут. А у макаков магот самцы (нет никаких оснований предполагать, что это отцы конкретных малышей) и вовсе удостаиваются невиданного доверия: они могут часами носить на себе детенышей на значительном расстоянии от матери, чистить и играть с ними (Рис. 3.5). Правда, возня с детенышами лишь отчасти может рассматриваться как чадолюбие. Самцы этого вида макаков часто регулируют взаимные конфликты, используя для этого детеныша в виде своеобразного буфера. Когда один самец начинает угрожать другому и бросается в атаку, потенциальная жертва быстро хватает ближайшего детеныша, сажает себе на живот и, приподнявшись на задние ноги, подставляет его агрессору, издавая при этом специфические умиротворяющие звуки (феномен, известный в приматологии как агонистический буфер). Как правило, в такой ситуации у нападающего начисто пропадает охота вести себя агрессивно. Он быстро успокаивается, подсаживается к противнику и начинает чистить детеныша, что-то дружелюбно воркуя.
Рис. 3.5. У макаков магот значительную долю времени детеныши проводят в обществе самцов на достаточном расстоянии от матери. (Фото М. Л. Бутовской).
История полового отбора: от Ч. Дарвина до наших дней
Люди, далекие от биологии, в основном делятся на две большие категории. Представители первой категории искренне уверены, что теория Ч. Дарвина безнадежно устарела (или вовсе никогда не отражала истинного положения дел). Вторая категория воспринимает идею естественного отбора в упрощенном виде, примерно таким образом: в каждом поколении выживают самые приспособленные, таким образом закрепляются и передаются полезные признаки и осуществляется эволюция вида. При этом из виду абсолютно упускаются две важные вещи. Во-первых, выжить – это полдела, главное – оставить потомство, иначе каким образом будут передаваться родительские признаки потомкам? Во-вторых, формула «приспособленные выживают, а неприспособленные погибают» – упрощение. Не бывает абсолютно приспособленных. Лучший стрелок в племени может плавать хуже соплеменников и страдать от грибковых заболеваний ног, а женщина, устойчивая к малярии (гетерозигота по гену серповидноклеточной анемии), оказаться более чувствительной к гриппу или брюшному тифу. В природе редко бывает так, чтобы в живых остался только «самый приспособленный», а все остальные вышли из игры. Обычно выживают особи с достаточно широким набором признаков (и это хорошо, потому что сама приспособленность – вещь относительная, ведь при изменении условий среды самым приспособленным чаще всего оказывается уже кто-то другой!). Успех отдельно взятой особи измеряется числом ее выживших потомков (приспособленность в Дарвиновском понимании этого явления). Современные же эволюционисты предпочитают оперировать понятием обобщенной (совокупной, включенной) приспособленности, которая подразумевает способность индивида обеспечивать распространение собственных генов в последующих поколениях. В этом случае, приспособленными будут считаться те индивиды, которые не только сами смогли успешно дожить до репродуктивного возраста и оставить потомков, но и сумели обеспечить выживание и репродукцию своих близких родственников, несущих гены, сходные с их собственными.
Большую роль в перспективе распространения своих генов у потомков играют, прежде всего, успешные половые стратегии. В эволюционном плане важно не просто выжить самому, а суметь понравиться противоположному полу, удачно выбрать партнера, обладающего высоким репродуктивным потенциалом, и суметь вырастить потомство. Отсюда следует вывод, который, возможно, удивит не только небиологов, но и некоторых биологов: выживание самого приспособленного далеко не всегда связано с отбором «самого полезного» на видовом уровне индивида.
Вот уже более ста лет, начиная с выхода в свет книги Ч. Дарвина «Половой отбор и проблема происхождения человека», опубликованной в 1871 г., в научной и философской литературе не умолкают споры о применимости эволюционных концепций к поведению человека и его половым стратегиям. В частности, Ч. Дарвин первым указал на то обстоятельство, что характеристики внешности или поведения, связанные с полом, формируются под влиянием конкуренции с представителями своего пола и отбора в направлении индивидов противоположного пола. Он же подчеркнул в своем труде, что эволюция мужских и женских признаков идет не потому, что данные характеристики обеспечивают носителю преимущества в выживании, а потому, что благодаря эти характеристикам особи получают репродуктивные преимущества.
Ч. Дарвин одним из первых пришел к выводу о том, что половой отбор может принимать форму открытой конкуренции между представителями одного пола (чаще всего это самцы) за доступ к половым партнерам. Например, многие самцы амфибий дерутся в сезон размножения за территорию (подобные бои и песенные дуэли между самцами озерной лягушки можно услышать в апреле-мае на прудах и болотах Подмосковья). Широко распространены бои за территорию и гнездовые участки у птиц. Активно сражаются за партнерш сумчатые и млекопитающие животные: кенгуру, олени, лоси, горные козлы, антилопы гну, жирафы, зебры, морские слоны, тюлени, котики, львы и другие хищные животные (Рис. 3.6). Дарвин обратил внимание на то, что конкуренция за партнера может носить и скрытые формы. В этом случае особи одного пола соревнуются между собой по критериям привлекательности для потенциальных партнеров. Поэтому половой отбор может принимать формы активной избирательности. В этом варианте самки выбирают самых сильных или самых «красивых» с их точки зрения самцов (или же выбирают самцов – владельцев самых больших и плодородных участков), а не самцы отвоевывают и силой уводят себе самок. Однако Ч. Дарвин не смог объяснить, каким образом формируется такого рода избирательность.
Рис. 3.6. У многих видов беспозвоночных и позвоночных животных самцы вступают в турнирные бои за самок; слева – дерущиеся жуки-олени; справа – дерущиеся самцы зебры.
Теория полового отбора Ч. Дарвина подверглась резкой критике современников, а в дальнейшем ее просто игнорировали почти полвека. Справедливости ради, следует отметить, что теория полового отбора в том виде, в котором она была предложена Ч. Дарвином, конечно, не была лишена недостатков. В частности, она не могла объяснить феномена сексуальной избирательности (выбора партнера). В своей книге «Половой отбор и проблема происхождения человека» Ч. Дарвин указывал на наличие феномена половых предпочтений, но не объяснил, каким образом эти предпочтения возникают. Однако накопление эмпирических данных о половых различиях в морфологии, физиологии и поведении не опровергало, а напротив, служило аргументом в пользу справедливости дарвиновских представлений о половом отборе.
Наличие неразрешенных моментов в теории Ч. Дарвина, таким образом, ни при каких условиях нельзя рассматривать как доказательство ее ошибочности. Теория полового отбора нуждалась в дальнейшем развитии, что и было сделано Р. Фишером через 60 лет после Ч. Дарвина. В 1930 г. Р. Фишер опубликовал книгу «Генетическая теория естественного отбора», в которой детально излагалась концепция «убегающего» или уклоняющегося отбора (Fisher, 1930–1958). Теория убегающего отбора устраняла существенный пробел в концепции полового отбора Дарвина. Р. Фишер показал, что в основе избирательности сексуального партнера лежит двухступенчатый процесс отбора. На первом этапе должно существовать определенное генетическое разнообразие по конкретному признаку (таким признаком может являться, например, длина хвоста), и самцы, обладающие более выраженным признаком (например, те, чей хвост несколько длиннее, чем у сородичей), могут выживать более успешно. Причины успешной выживаемости – большая скорость полета, более высокая маневренность или, что-либо еще. Предположим, что у самок существует генетическая изменчивость по критерию выбора партнера (одним нравятся самцы с короткими хвостами, другим – с длинными). Те самки, которые предпочли самцов с длинным хвостом, оставят сыновей, носителей этого признака, причем эти сыновья будут иметь более высокие шансы на выживание, чем короткохвостые сверстники. Если процесс отбора будет в течение поколений идти в заданном направлении, то в популяции постепенно распространятся гены длиннохвостости самцов и гены предпочтения длиннохвостых партнеров у самок. В результате, через какое-то время мы станем свидетелями нового эффекта: самцы с длинными хвостами не только будут лучше выживать, но и станут оставлять больше потомства (благодаря более высокому успеху в размножении).
К несчастью для науки, теория Р. Фишера осталась практически незамеченной эволюционными биологами, причем остается загадкой – почему это произошло. Одно из возможных объяснений – слишком сложный математический аппарат, использованный автором для теоретического обоснования феномена убегающего (уклоняющегося) отбора. А возможно, западное общество того времени просто не было психологически готово к принятию теоретических положений, постулирующих решающую роль особей женского пола в половых взаимоотношениях, ведь в то время представлялось очевидным, что женщины – лишь пассивный объект мужской страсти. В нашей же стране теоретические построения Фишера также остались без внимания, но по другой причине: как известно, в этот исторический период генетические исследования стали подвергаться существенным нападкам и сама генетика вскоре оказалась под строжайшим запретом.
Признаки, указывающие на оптимального полового партнера
Сегодня специалисты в области поведенческой экологии предлагают для объяснения механизмов женской избирательности и формирования вторичных половых признаков «паразитарную» гипотезу. Следуя этой гипотезе, самцы, обладающие более длинным хвостом и ярким оперением, имеют и более устойчивую иммунную систему (Рис. 3.7). Хорошее состояние перьевого покрова служит надежным индикатором отменного здоровья и хорошей физической формы его обладателя. Выбирая партнера с такими признаками, самки обеспечивают лучшее качество своих детей. Несомненно, эта гипотеза имеет под собой веские основания. Но почему у всех самцов данного вида, больных и здоровых, хвосты вырастают длиннее, чем нужно для полета?
Ответ на этот вопрос можно найти в теории эволюции полового поведения, разработанной Р. А. Фишером, и являющейся непосредственным продолжением развития теории полового отбора Ч. Дарвина. Фишер выдвинул гипотезу «сексуальных сыновей». Суть гипотезы в том, что формирование признаков, связанных с половым диморфизмом (как в случае с окраской тела и длиной хвоста у павлинов), происходит вследствие параллельной эволюции самого признака у одного пола, являющегося его носителем, и влечения к нему – у другого пола. Предположим, что вначале длинный хвост являлся индикатором здоровья самца, и что ни одному хищнику не удавалось оборвать этот хвост. Самки, которые выбирали в партнеры самцов с таким признаком, оставили более жизнеспособных сыновей, чем те, которые спаривались с короткохвостыми самцами.
Рис. 3.7. Взаимосвязь между устойчивостью к паразитам, выраженностью половых характеристик, иммунной устойчивостью и избирательностью самок. (Дано по Cartwright, 2000).
Со временем отбор стал благоприятствовать самкам, выбирающим длиннохвостых самцов. Но это означает, что длинный хвост стал выгодным признаком сам по себе, ибо самцы с такими хвостами получали доступ к большему числу партнерш. Самки, которые выбирали длиннохвостых самцов, оставляли не только более здоровых, но и более репродуктивно успешных сыновей, потому что длиннохвостые сыновья оказывались более привлекательными для окружающих самок. Таким путем происходила коэволюция внешности самцов и вкусовых предпочтений у самок. Процесс, благодаря которому происходит формирование вторичного полового признака и закрепляется его предпочтение у представителей противоположного пола, и получил название убегающего отбора.
Конечно, самки не сознательно принимают решение – кого им следует выбирать, ими движет относительно простая поведенческая программа: правило «делай так, как твои товарки». Если представить, что какая-нибудь упрямая курочка проявит оригинальность и пойдет наперекор «общественному мнению», выбрав короткохвостого мужа, то она окажется в проигрыше. Ведь ее сыновья не будут иметь успеха, а ее гены с меньшей вероятностью перейдут в следующее поколение. Короткохвостому и тускло окрашенному самцу легче прятаться от хищников и летать на большие расстояния – но что в этом толку, если ни одна самка не выберет его в мужья и отцы? Так что проявлять индивидуальность в вопросах моды на самцов-производителей у павлинов, райских птиц или павианов гамадрилов – занятие исключительно опасное. В настоящее время доказано: во многих случаях половой отбор идет именно таким путем.
Еще одну оригинальную модель отбора мужских признаков, которые не дают преимущества при выживании, но предпочитаются самками, предложил известный этолог А. Захави, базируясь на собственных наблюдениях за сообществами птичек говорушек. Она известна под названием «принцип гандикапа»: самки выбирают самцов с длинными хвостами, волочащимися по земле, именно потому, что выжить с таким хвостом (или ярким, броским оперением, или громким голосом, привлекающим хищников…) действительно очень нелегко – значит, самец, которому это удается, и есть самый сильный, ловкий и быстрый. На первый взгляд кажется, что эта модель все переворачивает с ног на голову, но и в ее пользу есть веские доводы. Мы не будем сейчас на них останавливаться. Просто примем во внимание, что половой отбор – одно из самых удивительных явлений в природе, и если у животных оно еще недостаточно изучено, что говорить о человеке?
Исследователи полового отбора давно обратили внимание на тот факт, что самцы у большинства видов птиц и животных значительно не избирательны по сравнению с самками. Они спариваются со многими партнершами, и в один сезон размножения преуспевающий самец может оставить потомства много больше, чем самая преуспевающая самка. Такая ситуация наблюдается у райских птиц, страусов, морских львов, оленей и многих видов обезьян – макак, павианов, лангуров, носачей, ревунов, орангутанов, горилл, шимпанзе. Да и человек не исключение из этого правила (правда, сезонность размножения у него отсутствует, впрочем, у большинства перечисленных выше обезьян – ее тоже не наблюдается).
Отбор среди самок идет не по принципу «кто красивее» (здесь мы не касаемся вопросов женской привлекательности в человеческом обществе), а чаще всего по критерию «хороших материнских качеств» и хорошего здоровья. Чем более заботливой и умелой матерью окажется конкретная самка – тем больше ее детенышей выживут и достигнут половой зрелости. Чем здоровее самка – тем выше вероятность выживания ее самой и ее потомства.
Третья гипотеза, направленная на объяснение феномена межполового отбора получила название гипотезы сенсорной эксплуатации. В рамках этой концепции половые предпочтения эволюционировали как побочный продукт уже существующего смещения в сенсорных способностях у данного вида животных. Представитель избираемого пола в этом случае как бы использует предпочтения во вкусах избирающего пола. К примеру, самцы могут эволюционировать в сторону броской расцветки, которая легко воспринимается зрительными органами самок, или могут специализироваться на песне, которая наиболее оптимально фиксируется органами слуха потенциальных партнерш, или специализироваться на секреции запаха, оказывающего максимальное положительное воздействие на обонятельные органы самки. Заметим, что появление таких новых качеств целиком и полностью продукт полового отбора, так как они обеспечивают самцам преимущества в спаривании, но вовсе не дают никаких преимуществ в выживании (скорее наоборот, затрудняют выживание, как уже говорилось выше). Однако, что касается предпочтений со стороны самок, то они являют собой преадаптацию, и, по-видимому, эволюционируют в силу иных экологических или поведенческих причин, а не являются следствием направленной половой избирательности.
Целый ряд феноменов полового поведения легче всего объясним именно с применением гипотезы сенсорной эксплуатации. Возьмем, к примеру, явление полового каннибализма у насекомых. Как известно, у многих хищных насекомых (богомолов, пауков) самка по размерам существенно превосходит самца, и важнейшим моментом ее успешной репродукции выступает необходимый объем запасенных энергетических ресурсов (Рис. 3.8). В этих условиях брачный партнер зачастую служит дополнительным источником ее пропитания. Как показывают наблюдения энтомологов, поведение такого типа может быть специфической адаптацией (крайним вариантом самопожертвования) самцов, а может просто оказываться побочным продуктом какой-то другой жизненно важной стратегии. Так, у одного из видов пауков, охотящихся под водой, Dolomedes fimbriatus, самка поедает самца во время копуляции, но эта модель поведения не может считаться адаптивной. Скорее, ее следует считать побочным продуктом отбора на оптимальное пищевое поведение особей женского пола, обеспечивающего хозяйкам повышенную плодовитость. Как показали Арнквист и Хенриксон (Arnqvist, Henriksson, 1997), количество яиц, отложенное самкой этого вида, зависит от размеров самки в ее конечном половозрелом состоянии, а размеры эти непосредственно зависят от способности и желания самки нападать на любую жертву без разбору. Чем ниже избирательность самки в выборе добычи, тем более крупных размеров она достигает к репродуктивному возрасту. Доказано, что от подобного каннибализма не получают никакой выгоды ни один из полов. Самки, практикующие каннибальскую стратегию, не повышают при этом свою плодовитость. Скорее, их плодовитость даже снижается, поскольку часто случается так, что самка съедает самца раньше, чем он успевает ввести ей в половые пути всю имеющуюся у него сперму. Не получает никакой видимой выгоды при этом и самец.
Рис. 3.8. Половой диморфизм по размерам тела у беспозвоночных животных. Самки часто много крупнее самцов: а) богомолы; б) пауки черная вдова – огромная самка и карликовый самец. (Дано по Нири, 1997).
Явление неадекватного полового каннибализма у паука Dolomedes fimbriatus находится в полном контрасте с адаптивным половым каннибализмов у других видов паукообразных. Например, доказано, что у садового паука вида Araneus diade-matus масса тела самки существенно возрастает в результате поедания полового партнера, а, следовательно, повышается и ее плодовитость. Пауки самцы получают прямую выгоду от такого крайнего варианта самопожертвования, так как при этом они оставляют больше потомства. У австралийского красно-спинного паука Latrodectus hasselti выгода от самопожертвования носит еще более прямой характер. Самцы, съеденные супругами во время полового акта, оплодотворяют примерно в два раза больше яиц (следовательно, оставляют больше потомков), так как дольше находятся в коитусе с самкой, пока та их поедает, чем те, кто ретируется с поля сексуальной битвы живыми и невредимыми.
Родительский вклад (почему у большинства животных самки чаще заботятся о потомстве)
Теория Р. Фишера прояснила одну из загадок теории полового отбора Ч. Дарвина. А именно: каким путем могли возникнуть и сформироваться предпочтения в выборе полового партнера. Однако и в таком осовремененном виде теория полового отбора все же оставляла целый ряд фундаментальных вопросов неразрешенными.
1. Она была не в состоянии объяснить, что движет этими двумя процессами: почему у большинства видов именно самцы, а не самки вступают в открытую борьбу за партнера?
2. Не давала разъяснений о сущности процесса выбора партнера.
Вопросы, на которые не сумел дать ответ Р. Фишер, были рассмотрены лишь через 40 лет Р. Трайверсом. (Trivers, 1972). Этот автор доказал математическим путем, что относительный родительский вклад в потомство является определяющим фактором для выбора конкретных стратегий поведения представителями мужского и женского пола. Р. Трайверс в своей работе поясняет, что под родительским вкладом подразумеваются любое время, энергетические ресурсы и поведенческие усилия, направленные на повышение вероятности выживания и репродукцию одного детеныша и затраченные в ущерб другим формам репродуктивных усилий (например, открытой борьбы с представителями своего пола). Родительский вклад оценивается в категориях снижения вероятности собственной выживаемости родителя, его репродуктивного успеха и ограничении возможности вклада в других родственников. Для самки млекопитающих формами родительского вклада являются: внутреннее оплодотворение, беременность, лактация и уход за детенышем.
Выше уже говорилось, что у большинства видов животных (амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих), для которых отмечена родительская забота, основной родительский вклад вносит самка, а не самец. Одним из величайших эволюционных преобразований, канализировавших повышенный родительский вклад самки, следует считать возникновение внутреннего оплодотворения. Т. Клаттон-Брок, крупнейший специалист по вопросам эволюции родительского поведения указывает, что внутреннее оплодотворение существенно повышает шансы эмбриона на выживание, так как его существование в материнской утробе много безопаснее, чем во внешней среде. При внутреннем оплодотворении существенно снижается численность потомства, и происходит переход от количества к качеству. Форма родительского вклада, при котором обеспечивается значительная численность потомства, а вклад в каждого потомка минимальный, называется R-стратегией. Как правило, R-стратегия распространена среди беспозвоночных, рыб, амфибий. Внутреннее оплодотворение представляет собой форму родительского вклада по типу К-стратегии: родители оставляют незначительное число потомков, но их вклад в каждого отдельного отпрыска весьма значим. Без всяких исключений именно самка взваливает на себя эту ношу. И ноша эта действительно существенна: у рептилий откладка яиц сопряжена с расходом 5-20 % годовых энергозатрат матери, а у новозеландской птицы киви вес откладываемого яйца достигает до трети веса самой самки. Не удивительно, что в этих условиях самки с большей требовательностью подходят к выбору партнера.
Переход к внутреннему оплодотворению создал новое направление селективного давления на самцов. Им ничего не оставалось, как приспосабливаться к новым обстоятельствам: большей избирательности со стороны самок и их возросшей требовательности к энергетическому вкладу самца (ресурсы, которыми самец обеспечивает самку и ее потомство). На этом эволюционном этапе самцы утратили контроль отцовства. Они более не могли быть уверены в том, что произведенное ими спаривание привело к оплодотворению. В ситуации внутреннего оплодотворения самки получили возможность спариваться с несколькими самцами, запасать сперму в специальных «резервуарах» и избирательно оплодотворять впоследствии созревающие в их организме яйцеклетки. В новых условиях самцы постепенно выработали поведенческие стратегии, направленные на повышение уверенности в отцовстве. Примером подобной стратегии служит охрана самки и полный контроль ее общения с другими самцами (точнее, полное предупреждение подобных контактов). Пастьба самок – типичная стратегия самцов павианов гамадрилов и горилл.
Почему же именно в среде млекопитающих наибольшее количество «папаш-тунеядцев»? Ведь известно, что заботу о потомстве проявляют самцы у некоторых видов рыб и амфибий (Рис. 3.9). Разумеется, ситуация с вынашиванием развивающихся икринок в специальной сумке на животе, как это имеет место у морских коньков и морских игл, явление необычное. Но забота о гнезде с икринками, обеспечение его вентиляции и безопасности – дело обычное (так поступают самцы трехиглой колюшки). У птиц отцовская забота о детях и вовсе явление обыденное. Заботливые отцы не только приносят пищу птенцам и охраняют гнездо от опасностей, но часто берут на себя работу по высиживанию яиц (как, например, страусы).
Рис. 3.9. У некоторых амфибий заботу о потомстве берет на себя самец. Самцы морских коньков вынашивают оплодотворенную икру в специальной кармане на брюшке. В урочное время папаши «производят на свет» крошечных морских коньков.
Очевидно, что различия по отцовскому вкладу в потомство между птицами и млекопитающими нельзя отнести за счет интеллектуального уровня развития видов, ибо в целом млекопитающие превосходят птиц по этому показателю. Важным фактором, способствующим развитию отцовской заботы у птиц, может выступать моногамия. Действительно, многие виды птиц моногамны и о птенцах заботятся оба родителя. Среди млекопитающих моногамия распространена существенно реже. Но только ли в моногамии дело?
Важной эволюционной инновацией в сфере родительской заботы явилось живорождение. Живорождение предполагает, что плод будет развиваться часть времени в утробе матери и является новым шагом на пути перехода от количества к качеству. Это преобразование еще больше повышает шансы потомства на выживание. Однако существенная энергетическая плата за выживание потомства также целиком и полностью ложится на самку. Т. Клаттон-Брок подсчитал, что у грызунов беременная самка должна потреблять на 18–25 % больше калорий в день, чтобы беременность протекала удачно. Таким образом, самки млекопитающих предрасположены к вынашиванию детенышей на физиологическом уровне.
Третья крупная инновация родительского вклада связана с грудным вскармливанием детенышей. Самки всех без исключения видов млекопитающих кормят детенышей молоком, отсюда и название самого класса млекопитающих. Разумеется, грудное вскармливание также в высшей мере энергозатратно. Самцы и самки млекопитающих имеют молочные железы. Однако функционируют они только у самок, и, следовательно, кормить грудью у всех видов млекопитающих могут только самки. Такое неравномерное распределение родительских усилий также является следствием неуверенности самцов в отцовстве, которая возникает в ситуации внутреннего оплодотворения.
По-видимому, гены запускающие процесс лактации, стимулируются женскими половыми гормонами. В исключительных ситуациях (терапия женскими гормонами, нарушения функции гипофиза при длительном голодании) у мужчин может наблюдаться рост груди и лактация. Однако в естественных условиях ничего подобного не происходит, и млекопитающие мужского пола не могут кормить детенышей попеременно с самками (что существенно облегчило бы положение последних).
Почему же гены, стимулирующие лактацию, не включаются у самцов? Одно из возможных объяснений кроется в неуверенности в отцовстве и отсутствии феномена пожизненной моногамии у преобладающего большинства видов млекопитающих. По-видимому, на ранних стадиях эволюции млекопитающих наиболее выгодной для самцов стратегией была полигамия (спаривание с несколькими самками). Среди современных млекопитающих, практикующих моногамию (песцы, лисы, шакалы, гиббоны, сиаманги), самцы вносят свой вклад в питание детенышей, добывая для них пищу, после того, как они перестают кормиться молоком. Однако даже у строго моногамных видов включения генов лактации не происходит.
Впрочем, Френсис с коллегами, наблюдавшие за популяцией летучих собак в Малайзии, сообщают, что самцы данной популяции имели развитые молочные железы, выделяющие молоко. Неясными остались причины данного феномена: то ли самцы действительно кормили грудью детенышей, то ли лактация была побочным следствием экологии питания – данная популяция кормилась преимущественно фруктами с богатым содержанием фитоэстрогенов. Если самцы из этой популяции летучих собак действительно кормили детенышей молоком, то они представляют собой единственный известный науке вид млекопитающих с такой физиологической адаптацией. За исключением, конечно, современных отцов в человеческом обществе, выкармливающих новорожденных искусственными смесями из бутылочек.
Итак, мы детально рассмотрели причины, по которым родительский вклад самки у всех без исключения видов млекопитающих (включая человека) несоизмеримо выше, чем вклад самца. Для млекопитающих такой вклад состоит из нескольких факторов: это более крупная яйцеклетка, энергетические затраты по вынашиванию плода в период беременности, лактация и грудное вскармливание, а также защита и забота об уже подросшем детеныше. Несоизмеримо большие энергетические затраты матери, делают ее более заинтересованной в выживании и благополучии потомства. Напротив, потенциальная неуверенность в отцовстве, способствует формированию таких сексуальных и родительских стратегий у самцов, которые бы обеспечивали их максимальный репродуктивный успех при минимальных энергетических затратах. В тех случаях, когда самки могут обеспечить выживание детенышей без участия самцов, последние предпочитают свое отцовство «не афишировать». Однако в тех ситуациях, когда экологические условия не позволяют самкам самостоятельно выращивать потомство, самцы вынуждены формировать устойчивые связи с самками и взваливать на себя часть родительских забот.
Конкуренция и избирательность – две половые стратегии
По мере накопления данных о стратегиях полового поведения животных стало очевидным, что для большинства видов мужской пол в большей мере конкурирует за право обладания особями женского пола, тогда как женский пол демонстрирует большую избирательность в выборе половых партнеров. В 70-е годы XX века было предложено научное объяснение такого связанного с полом базового различия. Основной вклад в понимание этого явления внесли В. Гамильтон и Р. Трайверс. Теория Р. Трайверса предсказывает, что тот пол, который вкладывает больше усилий в потомство, должен отличаться большей избирательностью в выборе партнера.
Таким образом, пол, характеризующийся более значимым родительским вкладом, в большей степени ориентирован на межполовую составляющую полового отбора (избирательность). Избирательность зависит от условий обитания и социального окружения, и у разных видов может касаться различных критериев качества партнера. Самка может выбирать партнера, повышающего ее собственные шансы на выживание и репродукцию, или на выживание и воспроизводство ее потомства. В крайних вариантах, основным критерием качества партнера выступают «хорошие гены» (определяют качество будущих потомков) либо готовность и способность потенциального партнера вкладывать усилия в заботу о потомстве (хороший отец повышает вероятность выживания потомства).
С другой стороны, пол, прилагающий меньше родительских усилий, должен демонстрировать большую конкурентность по отношению к представителям своего пола. Для него представители противоположного пола, затрачивающие больше родительских усилий, являются основным желанным ресурсом.
Специфика выбора сексуального партнера со стороны избирающего пола в значительной степени определяет характер конкуренции у другого пола. Так, если самки выбирают партнера, ориентируясь на качества территории, ему принадлежащей, то этим они создают селективное давление на самцов и вынуждают их конкурировать друг с другом за территорию. Тот, кто больше других преуспевает в завоевании качественной территории, получает и эксклюзивный доступ к партнершам.
Посткопуляторные формы конкуренции между самцами
В животном мире встречаются разнообразные формы посткопуляторной конкуренции самцов. Простейшим и самым распространенным способом является механическое удержание самки самцом до тех пор, пока та не отложит яйца. При этом самцы просто повисают на ней, исключая малейшую возможность адюльтера. Так поступают самцы водомерок и стрекоз.
Другие механизмы построены на снижении вероятности спаривания самцов соперников с только что оплодотворенной самкой. Самец южно-американской бабочки Heliconius erito при спаривании вводит в половые пути самки антиафродизиак, отпугивающий других самцов, как минимум, на две недели. Самцы многих видов сверчков, кузнечиков и бабочек перед окончанием копуляции затыкают половое отверстие партнерши специальной пробкой, которая делает доступ чужой спермы просто невозможной.
А самцы всем нам хорошо известных домашних кошек делают спаривание конкурента с только что оплодотворенной ими самкой невозможным, механически повреждая ее половые пути своим пенисом. Он устроен таким образом, что при движении в обратную сторону травмирует ткани влагалища, в результате чего происходит сильный отек, и половой проход оказывается блокированным для посягательств других котов как минимум на две недели. Но самые сложные стратегии посткопуляторной конкуренции самцов связаны с так называемой конкуренцией спермы.
В 1970 г. Г. Паркер опубликовал статью «Конкуренция спермы и ее последствия для эволюции насекомых». Она произвела сенсацию среди специалистов и переключила основное внимание исследователей с внешних проявлений конкуренции между самцами за доступ к самкам на более глубокий уровень непосредственной конкуренции спермы за оплодотворение яйцеклеток выбранной самки. Стратегии, используемые для успешной конкуренция спермы исключительно разнообразны в животном мире. У некоторых насекомых и членистоногих мужские гениталии имеют такое устройство, которое позволяет самцам выбрасывать из половых путей самки или нейтрализовывать сперму самцов конкурентов. Например, один из видов крабов при спаривании перемещает сперму предыдущих партнеров самки подальше от яйцепровода и фиксирует гелеобразным веществом. А некоторые плодовые мушки при спаривании вводят в половые пути самки специальные химические вещества, убивающие или дезактивирующие сперму предыдущих половых партнеров, но сохраняющие активной собственную сперму.
В ситуации полигинного типа половых связей, при котором с самкой могут спариваться несколько самцов в течение небольшого отрезка времени, конкуренция между самцами осуществляется за счет объема введенной в самку спермы. В сущности, это означает, что конкуренция между самцами осуществляется по принципу лотерейных билетов: чем больше билетов, тем выше вероятность выигрыша.
Замечательная иллюстрация «лотерейного принципа» в действии представлена в книге М. Маджеруса. Самцы австралийских жуков навозников представлены двумя морфотипами. Большинство самцов относятся к морфотипу самцов-стражников. Они имеют на голове рога, которые служат боевым оружием в поединках с другими самцами соперниками за рецептивную самку. Самец победитель образует пару с избранницей, проводит с ней время, помогает рыть норку и наполняет такую родильную камеру навозом, в который самка откладывает яйца. Самцы второго морфотипа, так называемые воришки, значительно уступают стражникам по размерам и не имеют рогов. Воришки никогда не участвуют в турнирных боях за самку и не образуют с ней пару. Они не помогают самке обустроить родильную камеру, и не обеспечивают будущее потомство пропитанием. Они роют норку по соседству с парой, а когда самец стражник отправляется за навозом, воришка проникает в «альковы» сладкой парочки и преспокойно спаривается там с самкой. После чего немедленно исчезает. Анализ объемов эякулята у стражников и воришек показал, что он много выше у воришек. Различия эти вполне соответствуют предсказаниям теории: стражники моногамны и в большей части случаев у них не возникает проблем с «неверностью» партнерши. Их основная стратегия – завоевать самку и позаботиться о будущем потомстве.
Воришки же полигинны по своей природе и их успех заключается в том, чтобы без помех найти «чужую» самку, когда ее партнер в отлучке и ввести в ее половые пути побольше спермы, чтобы их сперматозоиды численно подавили сперматозоиды стражника.
Феномен конкуренции между самцами, описанный у данного вида навозников примечателен еще и тем, что здесь мы сталкивается с сосуществованием двух эволюционно стабильных стратегий полового поведения. Причем, эти стратегии реализуются на разных стадиях конкурентной борьбы за самку: стражники прибегают к прекопуляторной конкуренции, а воришки делают основную ставку на посткопуляторную конкуренцию. При этом стражники вкладывают ресурсы в размеры, силу и вооружение, чтобы обеспечить себе пару, и в родительскую заботу. На производство большого объема спермы у них просто не хватает энергетических ресурсов. Напротив, воришки не тратятся на гонку вооружений, равно как и не размениваются на родительскую заботу. Все энергетические расходы направляются на производство больших объемов спермы.
Избирательность возможна на всех этапах: защитные посткопуляторные стратегии
Как было сказано выше, мужской пол чаще всего демонстрирует меньшую избирательность в направлении партнеров женского пола. Чаще всего мужские особи конкурируют друг с другом путем непосредственной физической конфронтации или опосредованной, на уровне конкуренции спермы. Феномен конкуренции спермы распространен у полигамных видов, для которых типичны промискуитетные отношения. У таких видов в течение одного репродуктивного периода самки могут вступать в половые связи с несколькими партнерами, а самцы – оплодотворять нескольких самок. В экстремальном варианте, спаривания происходят помимо свободного выбора самок (широко известные феномены «изнасилования» у некоторых видов насекомых, а также у приматов). Однако, оказываясь неспособными физически воспрепятствовать насилию, самки таких видов все же выработали специфические механизмы, позволяющие регулировать успешность действия спермы, принадлежащей разным партнерам. Этот тип женской избирательности получил названия криптическая избирательность самок.
В. Эберхард (Eberhard, 1996) полагает, что самки располагают значительно более мощным посткопуляторным потенциалом, контролирующим отцовство, чем таковой описан для самцов. К такого рода стратегиям можно отнести: раннее прерывание спаривания, предотвращение проникновения мужских гениталий в более глубокие участки половых путей самки, отсутствие условий для накопления спермы в половых путях самки, прекращение овуляции, абортирование, избавление от сперматофора, избавление от копуляторной пробки, избирательное использование спермы из накопительной камеры, избирательное обеспечение питательными веществами потомства конкретного самца, принятие ухаживаний со стороны другого самца.
Имеются эмпирические доказательства того, что самки действительно способны в значительной степени контролировать отцовство для своего потомства. Т. Пизари и Т. Биркхед приводят данные о том, что самки диких кур исторгают из себя сперму подчиненных самцов. А Э. Каннингем и А. Рассел показали, что самки кряквы могут избирательно манипулировать количеством питательных веществ в отложенных яйцах в зависимости от того, насколько привлекательным они находят конкретного партнера. При спаривании с привлекательным самцом, самки, находящиеся в хорошей физической форме, откладывают более крупные и тяжелые яйца.
Сходная стратегия практикуется и самками зебровой амадины. Интересно, что после спаривания с привлекательным партнером самки зебровой амадины откладывают яйца с повышенным содержанием тестостерона. Птенцы, вылупляющиеся из таких яиц, активнее просят корм, быстрее растут и, как правило, занимают более высокий социальный ранг, достигнув зрелого возраста.
М. Маджерус приводит весьма любопытный пример, каким образом в рамках одного вида (навозной мухи, Scathophaga ster-cornaria) сосуществует конкуренция спермы (стратегия самца) и криптическая избирательность самки (стратегия самки). У навозной мухи имеются специальные мешки для накопления спермы и несколько сперматек. Использование сперматозоидов с введенными в них радиоактивными метками показало, что самка может избирательно контролировать поступление спермы из семяприемников в сперматеки. Самки также способны контролировать, какой из семяприемников станет поставщиком спермы. Навозные мухи откладывают яйца на солнечную и теневую сторону коровьей лепешки. Мухи, вылупившиеся из яиц, отложенных на солнечной стороне, отличаются по строению энзима фосфоглюкомустазы, влияющего на рост личинки при различной температуре субстрата. Разные формы данного энзима контролируются разными аллелями одного гена. По-видимому, процесс оплодотворения яиц происходит в то время, когда муха их откладывает на коровью лепешку. При этом муха избирательно высвобождает из семяприемников ту сперму, которая содержит нужный аллель фосфоглюкомустазы, способствующий оптимальному росту личинки в тени или на солнце.
Конкурентные самки и избирательные самцы: возможно ли такое?
В большинстве случаев, в природе можно встретить модель сексуального поведения, для которой типична выраженная конкуренция между самцами и избирательность самок. Но в тех популяциях, где соотношение полов сдвинуто в пользу нехватки мужского пола, эта закономерность размывается. Самцы меньше конкурируют друг с другом, а самки становятся не так избирательны. Там, где наблюдается сильный сдвиг в сторону самок, и рост популяции начинает определяться наличием самцов, возможна даже полная инверсия половых ролей: самцы становятся выбирающим полом, а самки – конкурирующим.
Подобная модель поведения описана у небольшого числа видов, в частности у птиц. Например, у американской яканы, Jacanа spinosa, самки конкурируют за территорию, а самцы строят гнезда и заботятся о потомстве. Самцы же выбирают самок с учетом ресурсов, имеющихся в наличии на принадлежащей им территории.
У толкунчиков, Empis borealis, самцы преподносят самке пищевое подношение, которое обеспечивает ей основной запас питательных веществ, необходимый для развития яиц. Получается, что у этого вида самцы обеспечивают основной вклад в потомство. И усердие самцов не проходит даром. Они получают право выбирать самых крупных и активных самок. Как известно, у многих видов животных (олени, лоси, морские львы, тетерева, глухари, рыбки теляпии и пр.) самцы активно демонстрируют свои качества, сражаясь друг с другом на специальных токах или леках, самки же наблюдают со стороны и делают выбор в пользу победителей. Как показали Сивинский и Петерсон (Sivinski, Petersson, 1997) у толкунчиков все происходит с точностью до наоборот: на леках сражаются друг с другом самки, а выбор делают самцы.
У многих видов божьих коровок соотношение полов в популяциях резко сдвинуто в сторону женского пола. Это связано с наличием в цитоплазме у этих насекомых микробов и простейших, получивших в биологии имя мужских убийц (о мужских убийцах уже говорилось подробно в предыдущей главе). Например, в популяциях божьих коровок вида Adalia bippunctata с выраженным преобладанием женских особей самцы отчетливо регулируют свой репродуктивный вклад в каждую самку. В процессе одного спаривания самцы могут вкладывать в самку от одного до трех сперматофоров. Адаптируясь к ситуации, самцы либо вкладывают меньше спермы в каждый передаваемый сперматофор, либо вводят в каждую самку меньше сперматофоров, чем в норме.
Еще более удивительный пример приводит М. Маджерус, описывая поведение бабочек вида Acraea encedon, за которыми он проводил наблюдения в Уганде. Исследователь наблюдал огромные скопления самок этого вида на свободных от питательных ресурсов участках (прямой аналог леков у копытных). Самцы же, встречающиеся в значительно меньшем количестве демонстрировали выраженную избирательность в выборе подруг. Большинство самок были заражены бактерией Wolbachia, а самцы отдавали отчетливое предпочтение незараженным партнершам. Поскольку, в данном регионе Уганды соотношение полов в популяции было 95:5 в пользу самок, то совершенно очевидно, что самцы, спаривающиеся с незараженными самками, получали колоссальный выигрыш в приспособленности. Все они оставят сыновей, а сыновья в данных условиях имеют 20-кратный репродуктивный успех по сравнению с дочерьми (в эту категорию в условиях зараженности вольбахией попадут собственно генетические самки и феминизированные самцы).
Теория сексуальных стратегий
Начиная с 1972 г. зоологи стали широко и с большим успехом привлекать теорию полового отбора для объяснения феномена сексуальности у животных. Однако до конца 70-х годов ХХ века ее даже не пытались применять к анализу феномена человеческой сексуальности.
Формулируя теорию полового отбора, Ч. Дарвин не смог до конца объяснить причин, по которым такой отбор иногда благоприятствует признакам, не связанным с индивидуальными преимуществами в выживании, а иногда и откровенно затрудняющим выживание особей-носителей. Ответы на этот вопрос были даны лишь спустя 100 лет. Дональд Саймонс специалист в области эволюционной антропологии сформулировал в 1979 г. теорию сексуальных стратегий, в рамках которой постулировалось наличие половых различий в функционировании мозга у всех видов млекопитающих, включая человека.
В 1979 г. Дэвид Саймонс опубликовал труд «Эволюция человеческой сексуальности», ставший в настоящее время классическим (Symons, 1979). Развивая свои представления о сущности полового отбора в человеческом обществе, Саймонс исходил из того соображения, что все наши психологические характеристики можно разделить на две категории: результат естественного отбора (суть адаптации) и побочный результат отбора (могут быть нейтральными и даже вредными для выживания).
Саймонс дал исчерпывающее объяснение причин существующих в то время концептуальных заблуждений, наводнивших литературу по сексуальному поведению. В американской научной мысли того времени преобладали бихевиористские взгляды на поведение человека, в русле которых внешние проявления поведения считались единственно возможным объектом исследования. Он доказал в своем труде, что подобная постановка вопроса ошибочна. Возьмем, к примеру, такое явление как кратковременные сексуальные связи. С математической точки зрения среднее число таких связей одинаково для мужчин и женщин. Однако сходство по внешним проявлениям поведения скрывает за собой существенные различия в психологических установках, относительно желательного количества половых партнеров: мужчины во всех исследованных к настоящему времени культурах выражают желание иметь больше кратковременных партнерш, чем женщины – кратковременных партнеров.
Откровенные различия в психологических установках мужчин и женщин, таким образом, маскируются в этом случае реально демонстрируемым поведением (в реальной жизни половые влечения ограничены целым рядом средовых, социальных и личностных факторов).
Д. Саймонс заключает, что теоретические представления о сексуальных стратегиях человека следует строить на основе изучения психологических механизмов полового поведения, а не исходить из реально наблюдаемого поведения.
Вывод о наличии специфических психологических механизмов отбора половых партнеров у человека явился достаточно смелым шагом, так как в американской психологии того времени преобладали скиннеровские идеи о наличии общих универсальных психологических механизмов, действующих сходным образом в разных сферах поведения человека, при выборе полового партнера, пищевых объектов, мест отдыха или партнеров по кооперации. Идеи Саймонса по своей сути были ближе всего к этологическим представлениям об основах поведения. По теории этологов, внешние стимулы (температура, освещенность, наличие пищи, наличие хищников и пр.) в комплексе с внутренними факторами (конкретные мотивации, готовность к проявлению данного поведения, связанная с непосредственным физиологическим состоянием) запускают работу конкретных центров поведения (врожденный разрешающий механизм), которые имеются в мозгу индивида.
У мужчины и женщин в процессе эволюции сформировались различные предпочтения, связанные с выбором партнера: 1) у человека женский пол достоверно больше вкладывает в потомство, чем мужской, поэтому желание иметь доступ к большему числу партнеров – адаптивно для мужчин, но не для женщин; 2) мужчины и женщины ориентируются на разные качества при выборе партнера: мужчины ищут в женщине те качества, которые сигнализируют о ее репродуктивной ценности, а женщины – качества, свидетельствующие о способности мужчины обеспечить ресурсами и защитой женщину и ее потомство.
Примечательно, что в рамках данной книги автор говорит также о том, что далеко не все аспекты человеческой сексуальности следует считать адаптациями. По его мнению, молочные железы у мужчин являются побочным продуктом эволюции, связанным с формированием универсального дизайна тела у мужчин и женщин, тогда как оргазм у женщин является побочным продуктом оргазма у мужчин. Последнее оказалось неверным, о чем свидетельствуют данные приматологов и эволюционных психологов. Однако базовая идея, что не все аспекты сексуальности человека следует считать адаптивными, оказалась исключительно продуктивной и получила дальнейшее развитие в трудах многих специалистов по эволюции репродуктивного поведения человека.
В последние несколько десятилетий теория сексуальных стратегий особенно активно разрабатывается в работах американских эволюционных психологов Д. Басса и Л. Мили. В значительно мере благодаря стараниям этих исследователей, теория сексуальных стратегий послужила основой для интеграции эволюционной биологии и психологии человеческой сексуальности.
Сексуальная психология человека представляет собой комплекс стратегий выбора постоянного и кратковременного полового партнера, каждая из которых активируется под влиянием специфических социальных и сексуальных факторов. Мужчины и женщины демонстрируют разную степень сексуального влечения и потребности в новизне полового партнера. Мужчины и женщины во всех культурах ориентированы на разные качества при поиске постоянного полового партнера. Оба пола проявляют ревность, однако у мужчин она связана, в первую очередь, с боязнью физической измены партнерши (в основе такой боязни лежит неуверенность в отцовстве), а у женщин ревность больше сопряжена с вероятностью эмоциональной измены. Мужская ревность концентрируется на поиске признаков сексуальной измены постоянной партнерши, что не удивительно, ведь от правильного выбора партнерши и от способности мужчины предотвратить измены зависит, в сущности, его репродуктивный успех. Если выбор партнерши оказался неправильным и она, обманув мужчину, завела ребенка от другого, то он рискует затратить значительные силы и финансовые средства на воспитание чужого ребенка, а его собственные гены будут утрачены в последующих поколениях.
С точки зрения первобытной женщины, сексуальная неверность мужчины сама по себе никак не снижает ее уверенности в материнстве. Но измены могут быть чреваты потерей части отцовского вклада, который мужчина мог бы внести в обеспечение ее собственных детей, а в данной ситуации будет оттянут в пользу детей другой женщины. В силу обозначенных базовых различий между полами, теория сексуальных стратегий предсказывает, что мужская ревность будет проявляться применительно к постоянной партнерше идентичным образом во всех культурах и в существенной мере провоцироваться признаками женской сексуальной измены. Напротив, женская ревность во главу угла ставит эмоциональную верность. Выраженность женской ревности и ее проявления будут существенно варьировать от культуры к культуре, а также от ситуации к ситуации.
Общие принципы различий между полами (стратегии спаривания, вмешательство в спаривание и родительское поведение)
Хотя у каждого вида животных тактики сексуального поведения могут отличаться, у видов представленных мужским и женским полом можно выделить целый ряд универсальных моделей поведения. В своей замечательной книге «Половые различия: онтогенетические и эволюционные аспекты сексуальных стратегий», Линда Миле обращает внимание на следующие принципиальные половые различия в стратегиях спаривания.