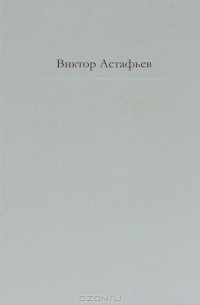Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1968
20 января 1968 г.
(В. В. Смирновой)
Дорогая Вера Васильевна!
Я получил Ваше доброе и славное письмо, и в такое время, когда могу, не торопясь, написать Вам. Дело в том, что я нахожусь в больнице. Я был на похоронах Александра Николаевича Макарова, и так они на меня подействовали, что вернулся домой совершенно разбитым и месяц перемогался, и потом пришлось всё же пойти в больницу. Страшноватого-то ничего нет, слава богу, но подлечиться требовалось.
Смерть Александра Николаевича для меня, да и для всей нашей литературы, считаю, большая потеря. А я так вроде бы второй раз осиротел. Непродолжительная, но очень крепкая дружба связывала меня с Александром Николаевичем. Многому он меня незаметно научил за это время, во многом помог разобраться, не стараясь как бы этого и делать вовсе, от многого наносного, идущего от периферийности мышления помог избавиться, и во многом, конечно же, осложнил мою писательскую жизнь. Сделалась она гораздо труднее, но это как раз те трудности, которые создавал Чаадаев Пушкину и без которых Пушкин не стал бы тем, что он есть (я, конечно, без аналогий, а просто вспомнил, как пример).
Мне очень легко было общаться с Александром Николаевичем. И дело не только в его деликатнейшем, милейшем характере, в какой-то застенчиво-мужицкой тактичности, а ещё и в том, что, послужив под началом литгенералов, всё изведав и испытав, и осмыслив в нашей суетной, порой визгливой литературной жизни, он сумел подняться над всею литературной мишурой, мнимостью борьбы, больным и недалёким вождизмом, так поражающим бывших полковников и майоров, затесавшихся в литературу и оставшихся, по существу, всё теми же полуграмотными офицерами с окопными или заокопными замашками ротных командиров. Поднявшись над этим, он относился ко всему этому, что меня порой ранило, возмущало, с каким-то спокойным и снисходительным юмором. «Ну что Вы, Виктор Петрович, – бывало, скажет, – стоит ли на это обращать внимание? Вы пишите, голубчик, и на такие пустяки не расходуйте силы и нервы, у Вас они не больно железные. Я вот…» И расскажет о чём-нибудь, что отняло у него годы, силы. А то, бывало, грустно помолчит и погладит меня по плечу, по голове и вздохнёт: «Ах, дорогой вы мой!» – и прочтёт что-нибудь к случаю или смешное, или грустное.
Памяти его я постоянно поражался, как поражался и работоспособности. Ведь обо мне и о Галине Николаевой он писал статьи уже смертельно больным. К тому же и дома у него была не очень, если не сказать больше, творческая обстановка.
Очень, очень я жалею, что свела нас судьба с Александром Николаевичем поздновато и на малое время. Я и сейчас ещё не могу прийти в себя. Наталья Фёдоровна хлопочет об издании написанного Александром Николаевичем и просит, чтобы я что-нибудь написал о нём, ведь у меня много писем его, умных, всегда почти шутливых, а за шутками столько грусти! Но я никак не могу, да и не знаю, как приняться за эту работу. Во-первых, мне не приходилось делать такое, а во-вторых, наверное, и тяжело очень будет. Ведь это как бы вдругорядь хоронить дорогого, незабвенного друга.
Я вот и сейчас пишу Вам о нём, а у меня в горле слёзы стоят, и дрожу я весь. Писанина моя нынче как-то не очень идёт. Много я писал и печатал в прошлые годы. Видно, выдохся и устал. Написал, правда, начерно небольшую повесть «Пастух и пастушка» с подзаголовком «Современная пастораль», задуманную ещё в 54-м. Но приостановилось пока всё. Повесть очень сложная. Повесть о войне и любви. О том, как раздавила война накоротке вспыхнувшую любовь и уничтожила романтичного, чистого и, следовательно, не подходящего для наших времён человека.
Как дальше пойдёт, не знаю. Должны нынче выйти «Кража» в «Молодой гвардии» и сборник рассказов в «Советском писателе». Я их Вам пришлю.
А в Перми моё постоянное местожительство. Раньше я жил за Пермью, но после Высших литературных курсов перебрался сюда. Не скажу, что Пермь самое подходящее место для пишущего человека, но город более или менее культурный среди российских городов и спокойней городов молодых – а впрочем, провинция, конечно, со всеми вытекающими плюсами и минусами.
Но в Москве я и вовсе жить бы не смог – меня разодрала бы суета и склочность литературной жизни. Я иной раз побываю там неделю и столько наслушаюсь, что неделю, а то и месяц отплёвываться нужно. Бог уж с ней, со столицей! Не опускаться если душевно, так можно и у нас жить и писать, оно даже и лучше – к природе ближе и к народишку нашему послушному, разгульному и затурканному.
У меня в деревне есть свой домишко, так большую часть времени живу я со своей дорогой супружницей там. А дети уж выросли. Дочери двадцать, сыну скоро восемнадцать. И на нас уж старость надвигается!
Всего Вам доброго, Вера Васильевна. Возможного здоровья, работоспособности и душевного покоя. Всегда Ваш В. Астафьев
Май 1968 г.
Быковка
(А. М. Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!
Долго я Вам не писал и сейчас пишу уже на Кузьминское, памятуя, что Вы собирались туда после поездки в Данию. А судя по статье в «Литературке», Вы туда уже съездили. Пишу я из деревни тоже.
Мы с женой садим картошку, лук и прочую огородину. Никак не можем отвыкнуть от земли своей, и, хотя эту самую овощь легче купить, чем обиходить, – мы всё же садим каждый год и радуемся, если что-то вырастает, той здоровой радостью, которую нынешние советские писатели клеймят и проклинают, изобличают и умничают, а сами, конечно же, картошку едят и недовольны, если она дороговата и неразвариста. Мне всё кажется, что по отношению к сельхоз. труду у нас произошло какое-то умственное надругательство, и никто этого никак понять не желает.
Я вот помню, моя бабка-сибирячка, Екатерина Петровна, поизбалованная, как и все сибиряки, жирной, вольной и родливой землёй, в 30-е годы категорически отказывалась класть навоз в землю, и вся деревня наша против этого новшества вставала на дыбы: «Да чтобы картошку, да из говна вынутую ись?! Не-е, я её лучше садить не буду, мать её и перемать!..» Навоз наши весь отдавали китайцам, которые жили колонией на окраине Красноярска, и потом у них же на базаре покупали крупную раннюю редиску, великолепные красные помидоры и толковали меж собой: «Слова эти бляди-хунхузы знают, и от того у них растёт всё как дурнина…» А насчёт навоза нашего же, деревенского, и веры никто не давал.
Так вот и советские писатели, и журналисты многие, и многие советские баре всё ещё брезгуют тем, что крестьяне вынуждены копаться в говне, кормить их, и они им придумывают труд другой, более разуму их удобный и красивый. А раз придумывается труд, надо и людей придумывать, и не случайно такое яростное, просто оголтелое сопротивление встретила Матрёна солженицынская. Её, этой живой, доподлинной бабы, испугались хуже, чем чернозёму, потому что она сразу выместила из русской избы и деревенской литературы мильёны жизнерадостных колхозниц, сбросила с книжных полок тыщи томов, состряпанных и сляпанных литературными деятелями, которые жили и живут по нехитрому правилу «что изволите?». Эти ловчилы отлично понимают, что появись такие вот живые Матрёны, и они из-за них тут же лишатся куска хлеба с маслом, не говоря уже о круглогодовых путёвках в дома творчества.
Моя деревня Быковка состоит из десяти домов, и здесь всё есть, как во всяком русском селе: одна дура, одна припадочная, одна блядь, один современный куркуль. Всего по одному, а вот Матрён наберётся десяток, потому что в эти десять быковских старых-престарых изб не вернулось с войны 16 мужиков. А кто же возьмёт замуж таких изработанных, некрасивых, неразвитых баб? Вот они и ворочают землю. Одни таскают вязанки сена из лесу тайком, а потом наварят браги, да как напьются, да как запоют хриплыми голосами про Марусю, которая отравилась «от проклятой, от любви», так ажно сердце кровью и обливается, и хочется обнять их, этих баб, и к сердцу прижать да нареветься вместе с ними по-бабьи громко, с припевом, и обласкать их, а заодно и себя тоже…
Ездил ненадолго в Тюмень и день Победы пробыл там, а вернувшись, нашёл дома приятную весть. Из «Нового мира» сообщили, что люди сего журнала склонны взять мою повесть. Дело только за «небольшим», то есть за Твардовским, если он даст добро, можно приступать к редактуре. Редактуру согласилась делать Берзер. Я её не знаю как редактора, но статьи её, по-моему, когда-то читал.
В связи с такой новостью меня сразу охватил трудовой зуд, и я начал гвоздить подборку лирических рассказов, давно задуманную, выношенную, но из-за того, что я расклеился и вышел из рабочей колеи, до сих пор не написанную. Тут уж очень упорно начали поносить лирическую прозу, и некоторые готовы стали утверждать, что был бы смысл, а всё остальное ерунда, а прозаики, преимущественно полковники и подполковники в отставке, всё жмут на героизацию, в открытую, с трибун съезда, проповедуя мужество, потому что они главной книгой в жизни почитают «Устав полевой службы», а из неё пункты такие, как: «Действия старшего начальника обсуждению не подлежат», «Смирно!», «Кругом!», «Прекратите разговоры!». Кто такой Ницше и почему его фашисты в боги взяли, наши подполковники в литературе понять не умеют. Не хватает ихого ума на это. А уж говорить им о том, что склонность русских писателей к лирической прозе, а русских читателей – к пониманию таковой есть национальная особенность, особенность народа, который нескладных песен не пел, имеет почти весь фольклор ладный и складный, да и сама природа с её зримыми сменами времён года, все её травушки-муравушки, цветочки-цветики, листики-листочки, то расцветание, то умирание на глазах русского человека делают его душу мягкосердной, протяжно-жалостливой. И недаром исконно русские поэты, выходцы из народа, отличались таким стихотворным ладом, такой душевностью, что народ наш пел и принимал их без подписки, принимал, как себя самого. И не знает до се наш простой люд таких поэтов, как Маяковский и ему подобные, хотя они и со «смыслом», а вот Есенина знает.
Наши молодые прозаики, слава богу, небольшая, но бойкая часть их, под шумок суют такие изделия, что в них сплошные афоризмы, переложенные из Ларошфуко или ещё из кого, сплошные эпиграфы и параграфы, подзаголовки занимают уже целые страницы, любовные записки, справки и накладные, целиком переписанные. И всё это для того, чтобы изловчиться и прикрыть отсутствие лирического настроя души, то есть прикрыть отсутствие самого себя, ибо в настрое вещи или в «звуке», как говорил Бунин, как раз и можно только проявить себя, свои чувства, опять же душу, потому что чувства без души не живут, как птицы без гнезда не выводятся, есть, правда, такие, как голубь и кукушка, но они иждивенцы в природе, по-прежнему тунеядцы и дармоеды.
Жуть меня берёт, как я подумаю, что скоро помрут Паустовский, Леонов, Никулин, Шкловский, а что взамен идёт?
Но это уж тема разговора на целый вечер. Письмо и так длинное получилось. Ну да Вы в деревне. Я люблю читать длинные письма, особенно Ваши. Всегда радуюсь им. Всего Вам хорошего. Главное, рабочего настроения. И бодрости. Крепко жму трудовую. Виктор
Июнь 1968 г.
(А. М. Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!
Давно уже получил письмо от Вас, и нынче вот и книжку рассказов, но никак не мог собраться с силами написать Вам. Сначала все мои писания прервала поездка в Югославию. Был первый раз за рубежом и, может, оттого, что был в стране доброжелательной, неплохо живущей, почувствовал себя впервые настоящим человеком, причастным к Великому народу и Великой стране, человеком, которым гордятся и которому есть чем гордиться. Как жаль, что за утверждением собственного достоинства и достоинства своего народа стало необходимо ездить за границу, ибо громкие слова, что говорят нам всечасно равнодушным голосом, перестали уже действовать в своём доме, и если действуют, то даже наоборот. Словом, поездка была прекрасной. Впечатлений масса, и самых хороших.
Но начиналась поездка трудно, в беготне и нервотрёпке, ибо наши доморощенные деятели задержали мои документы в Перми. Оттого я и не повидался с Вами, а звонить не люблю. Надеялся сделать это на обратном пути, но не вышло – очень торопился. Надо было проводить сына в армию.
Приехал 1 мая вечером домой (в пути мне исполнилось 44), а 5-го проводили Андрюшку. Провожали тягостно, особенно мать. Она слегла сразу с тяжёлым сердечным приступом, а когда встала чуток на ноги, я увёз её в деревню. Там копались в огороде, садили кое-чего, а сегодня вернулись – и письмо от сына: отправлен в Германию. Я, как старый солдат, всё время держался, а вот сегодня навалилась какая-то дремучая тяжесть, и весь я как разбитый. И понимаю всё, а поделать с собой ничего не могу – печально, смурно на душе. Писать о новобранцах всё-таки легче, чем провожать их. Да ещё в Германию, будто эта Германия и без того не сидит в моих печёнках. А тут – не парадокс ли! Письмо из Германии – в Берлине собираются издавать «Кражу». Полное содружество семьи Астафьевых с немцами! Один будет охранять их мир и покой, а другой чтением развлекать! Если бы мне сказали об этом в 44-м году – я бы, наверное, коньки отбросил бы от потрясения. А сейчас вот ничего – живём! Ох, всё же какая извилистая штука – жизнь!
Повесть свою «Пастух и пастушка», после третьего захода, я отложил до осени. Пока не я её, а она меня одолевает, потому пусть полежит, может быть, мы найдём общий язык. Да и могу я себе нынче наконец-то позволить не спешить. Если всё будет на горизонте прилично и цензура вовсе не освирепеет, у меня выйдут в нонешнем году четыре книжки и я буду долгое время, при наших скромных запросах, с хлебом и солью. А это такое счастье! Такая свобода, о которой я мечтал много лет.
Очень много появилось какой-то мелкой, суетливой работы, запросы, анкеты, ответы, а я отказывать не умею и считаю должным ответить вниманием на внимание. Вот и пишу всякую шелуху. И тоже волнуюсь, дурак!
Съездили ль Вы в Швецию? Что нового на литературном горизонте? Видел в газетах, как поспешно каются люди, живущие по принципу: не согрешишь – не покаешься. А мой выбрык против «отца русской литературы» стоил мне выброса из «Роман-газеты», и «доброжелатели» обещают, что на этом не кончится, он, мол, памятливый. Да наплевать мне на всё это. Мелочи всё это по сравнению с главными вопросами жизни, которые с возрастом всё меньше и меньше оставляют времени для сна.
Картину Вашу ещё не видел. Она идёт у нас с 27-го числа, но уже много о ней читал добрых слов! Радуюсь за Вас и желаю дальше так же действовать. Передайте от меня и моей бедной Маши привет Валентине, а Вас я обнимаю. Виктор
1968 г.
(Адресаты не установлены)
Уважаемые Элеонора Петровна, Инга Ивановна и Наталья Ивановна!
Я всё лето был в Сибири и потому не ответил на ваше доброе письмо. Да, как у всякого пишущего, у меня тоже появляется «кинозуд», но уж мало чего от него осталось. «Звездопад» пытались поставить на Свердловской киностудии, уже и деньги мне платили, но жена моя напугалась и велела мне их вернуть, ибо ни за один рассказ мне столько не платили, а тут за сценарий, написанный по готовой вещи… Кино не поставили. Сценарий вернули: то я что-то не так сделал, то режиссёра не нашли, то ещё что-то мне непонятное содеялось… Но на этом моя киноопупея не закончилась.
Узнал об этом Юрий Бондарев, что ввязался я в такое дело, а повесть ему нравится. И спрашивает: «Остался ли хоть какой-нибудь экземпляр?» – «Остался», – говорю. «Давай его мне, – сказал, – я его в своё творческое объединение отдам, там ребята хорошие, а про любовь хорошего ничего нет». Я послал. Жду-пожду. Год прошёл. Два прошло, а я всё жду, но не это главное. Главное, что я работаю там, где бог мне назначил, – пишу потихоньку прозу. Однажды у Бондарева спрашиваю: «В корзину его бросили иль как?» – «Не бросили, но потеряли», – отвечает мне Юрий. Кулик или Калик какой-то потерял мой «Звездопад». Как пели в детдоме мои друзья: «Утонул он, утонул, только хером болтанул!..»
Тут я успокоился и решил жить дальше в качестве прозаика и кинозрителя. Но раз! Зазвонили, затрещали телефоны. Студия им. Довженко: сейчас, моментом, с ходу или, как опять же острили орлы-детдомовцы: «С маху под рубаху!», хотят снимать полнометражный фильм по рассказу «Ясным ли днём». Режиссёр любит меня и обожает рассказ! Директор студии рыдает, ибо сам безногий, а тут герой без ноги. Ну, думаю, такое редкостное совпадение даст результат – уж две-то ноги на двоих кино вывезут!
Ан не тут-то было! Есть начальство на двух ногах и даже на трёх, которое попадается и лает: «Як цэ можэ буты, шоб громадяника, та ще червоноармейца бэз лапы на нашему лучшему, передовому, гуманному экране показуваты? Чи мы капыталисти, чи футурысти?.. Пэрэробыть!» Пэрэробляв я, пэрэробляв той горемычный киносценарий и однажды выразился, тихо, но матерно…
На том моя киноопупея будто и кончилась, если не считать нескольких коротких фильмов, снятых выпускниками, из которых я ни одного не видел. Говорят, на Одесской киностудии по рассказу «Солдат и мать» дипломная работа одного из выпускников получилась очень удачной, да и играют в фильме любимые мною актёры – Булгакова и Кононов.
Ну-с, режиссёр со студии Довженко, парень по духу мне близкий, не забывал меня и в покое не оставлял – уломал меня написать сценарий по повести «Пастух и пастушка». Студия сценарий приняла на ура. Режиссёр уехал в деревню, я – в Сибирь, а сценарий пошёл по инстанциям. Что, кто, где и как! – я ничего не знаю, иль повторяю, что лишь вчера вернулся с родины.
Вот и всё, что могу сказать я о своих отношениях с кином… Когда-то Джона Стейнбека спросили: имеет ли он какие-либо отношения с телевидением? И этот проклинаемый нами писатель, которого я, несмотря на поношения «Лит. газеты», до сих пор обожаю, ответил перед самой смертью с буржуйской прямотой: «Ну должен же человек иметь хоть одно достоинство! Моё заключается в том, что я не имею никаких дел с телевидением…»
Но там телевидение растленное, двенадцатипрограммное, там голых девок показывают, и друг в дружку стреляют, да банки грабят. А вот покажете вы, допустим, госпиталь в том виде, в каком я его написал, чтобы не рядить больных в пижамки, чтобы кровь и страдания были не красивенькие, а раны гноились, и любовник Миша Ерофеев ходил в кальсонах, подвязанных юбкой? Нет, конечно. А на нет и суда нет! Пусть дальше показывают Марью-большевичку, которая в берлогу залезла, изнасиловала медведя и вдобавок шкуру с него сняла! Во баба, а?! Родился в Сибири, крестился в Сибири, а таких впервые вижу! Медведя за всю жизнь нос к носу видел один раз, ружьё было в руках, правда, дробью заряженное, но… я – не Марья, далеко не Марья! Только и смог пошевелить губами: «Ну, уходи!..» – сказать. И он ушёл, а то бы и письмо писать мне вам не довелось.
Вот предложил бы вам попробовать снять многосерийный фильм по повести «Последний поклон». Добрый видится мне фильм. И режиссёр есть, который «по-телевизионному» его видит, а ну как в «Поклон»-то Марью-большевичку вставят либо Петю Вельяминова, старого моего знакомого, – сусальненьким большевичком с усиками, речи произносить заставят? А?! Ой, люди, страшно!..
Ставили у меня в каком-то году «Дикий лук» на Центральном телевидении. Соседи сошлись, расселись. Ребята на полу разместились. Сосед мой в Перми в 28 лет доктором философии был. Глядел я, глядел кинопродукцию по своим «мотивам» и подумал: возьмёт сейчас сосед мой кирпич да как шандарахнет мне по башке за такое кино и отвечать не будет, ибо за такое говно убивать мало.
Ну и как вы после этого? Согласны приглашать меня ещё или уж бог со мною?
А телевизор я смотрю регулярно, иной раз с большим интересом. Ваш «Адъютант» мне очень понравился, особенно (в нём) Слава Стржельчик. Я как-то увидел его в Москве в гостинице, хотел сказать ему об этом, да постеснялся. А в «Вызываем огонь на себя» или «Операции «Трест» – очень понравилась Касаткина. Дай ей бог здоровья и вам тоже!
Я только что с родины приехал – брата похоронил (от рака умер). Всё лето умирал у меня на глазах, оттого и юмор мой злой. Простите!
В. Астафьев
1 сентября 1968 г.
Быковка
(В. А. Старикову)
Дорогой Виктор!
Письмо твоё привезли мне в деревню, где безвылазно сижу я уже два месяца, засгигнутый непогодой, скверным настроением и трудной работою. Делаю сценарий по «Звездопаду» по договору со Свердловской студией. И так от него обалдел, что для радости и отдохновения души написал два небольших рассказа про разных животных, как то: «Коростель птица» и «Жеребёнок Яшка».
Сценарий я днями закончил. В конце концов он увлёк меня и, кажется, получился значительным, а потому и не видать ему жизни на экране, но аванс я отработал честно и тем хотя бы доволен.
Ездил я в июне в Вологду (не знаю, писал ли об этом тебе). В хорошей компании – Фёдор Абрамов, Вася Белов, Женя Носов, Саша Романов и ещё четверо интересных парней-художников прокатились от Вологды до Великого Устюга на пароходике, и это было самой большой отрадой в моей нынешней жизни, которая после смерти Александра Николаевича как-то сделалась очень уж квёлая и одинокая.
В Великом Устюге мы заходили к художнику Шельниковскому. Ему 85 лет, он основатель и утвердитель знаменитой северной черни по серебру, деятель искусств. Получает персональную пенсию 85 рублей, и дали ему двухкомнатную квартиру. И он так рад, доволен всем этим, особенно что сортир и ванная у него вместе, что и слушать его горько даже. И вот довольный всем и жалкий в этой довольности, большой художник жаловался лишь на одно: «Мне всю жизнь не хватало среды. Я засох тут один». И я понимаю его. И надумал я покинуть Урал – спившуюся, покрытую болотной ряской пермскую организацию, где не только не пишут, но и не читают даже, а только пьют, дерутся и изображают из себя писателей. С сорок пятого года живу я на Урале и не прирос к нему, не сделался он мне своим. Хватит! Слушался жены, тёщи, боялся ворохнуться, а сейчас всё – рублю концы! Звали меня опять ребята в Вологду. И хорошие они ребята, и город приятный, а всё же поеду я на родину в Сибирь.
С 4 по 8 сентября в Киеве будет встреча ветеранов нашей дивизии. Удостоился! После этого я заеду в Москву, там скопились у меня разного рода дела, в том числе, кажется, и редактура в «Роман-газете». И как только покончу со всем, получу деньги, сразу же начинаю дело с обменом квартиры и к весне думаю убраться в Сибирь, а может, и раньше. Тем более что задумал я большой роман, а без Сибири и каждодневно вливающейся живой речи мне его уже не написать. Мои языковые запасы и воспоминания почти иссякли.
Счастливо вам отдохнуть! Обнимаю вас обоих, ваш Виктор