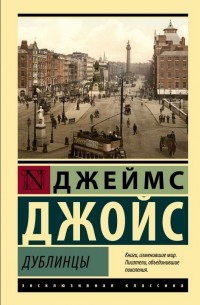Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XXIII
В этот период происходили кое-какие волнения в политических кругах, связанные с деятельностью Королевского университета. Было предложено создать комиссию для рассмотрения вопроса. Иезуитов обвиняли в том, что они направляют эту деятельность в своих целях, пренебрегая беспристрастною справедливостью. Чтобы опровергнуть обвинение в обскурантизме, разрешили начать выпуск ежемесячного журнала под руководством Макканна. Свежеиспеченный редактор был полон воодушевления.
– У меня уже собрано почти на весь первый номер, – сообщил он Стивену. – Я уверен, нас ждет успех. Хочу, чтобы ты нам написал что-нибудь для второго номера – только чтобы можно было понять. Прояви каплю снисходительности. Теперь ты уже не скажешь, что мы такие варвары, – у нас свой журнал. Мы можем выражать свои взгляды. Напишешь нам что-нибудь, хорошо? В этом месяце у нас статья Хьюза.
– Конечно, у вас и цензор есть? – спросил Стивен.
– Понимаешь ли, – сказал Макканн, – первый, кто выдвинул идею журнала, это был отец Камминс.
– Глава вашего братства?
– Ну да. Он выдвинул эту идею, так что поэтому он выступает как бы ответственным за нас.
– Значит, он и есть цензор?
– У него есть полномочия, но он вовсе не узколобый человек. Тебе его незачем опасаться.
– Понятно. А скажи, пожалуйста, мне заплатят?
– Я думал, что ты идеалист, – отвечал Макканн.
– Удачи вашему органу, – молвил Стивен, помахав прощально рукой.
В первом номере журнала Макканна содержалась длинная статья Хьюза «Будущее кельтов». Там содержалась также статья сестры Глинна, написанная по-ирландски, и редакционная статья, в которой Макканн повествовал об истории возникновения журнала. Она начиналась так: «Главе нашего братства пришла счастливая мысль соединить все разнообразные стихии жизни нашего колледжа, открыв им возможность обмена идеями и взаимной критики на страницах университетского журнала. Благодаря усилиям и стараниям отца Камминса, исходные трудности были преодолены, и мы появляемся перед публикой с приветствием и с надеждой, что публика нас выслушает». Были в номере и несколько страниц сообщений из спортивных клубов и интеллектуальных кружков, где прохаживались по адресу разных знаменитостей, прозрачно скрытых под латинизированными фамилиями. «Медицинские заметки» за подписью «Н2О» [и] состояли из нескольких поздравительных абзацев о студентах-выпускниках медицинского факультета и нескольких восхвалительных – о милых и добрых профессорах. Имелись также стихи под названием «Девушка-товарищ» (песнь ласточки в полете), подписанные «Тога Девичис».
Стивену новый журнал показал в Библиотеке Крэнли, который, судя по всему, прочел его от корки до корки. С большой настойчивостью, невзирая на нетерпеливые восклицания, Крэнли протащил друга по всем разделам. «Медицинские заметки» извергли у Стивена такой взрыв приглушаемых ругательств, что Крэнли начал хохотать, прикрываясь страницами журнала, и краснолицый священник, сидевший напротив, воззрился на них с негодованием поверх своего номера «Тэблет». В портике Библиотеки стояли кучка юношей и кучка девушек; экземпляры новинки были у всех. Все болтали, смеясь, и медлили расходиться под предлогом дождя. Макканн, быстрый и возбужденный, в велосипедном кепи, сдвинутом набекрень, сновал между группами. Завидев Стивена, он подошел к нему с выжидающим видом.
– Ну как? Ты видел…?
– Это великий день для Ирландии, – произнес Стивен, завладевая рукою редактора и с торжественностью пожимая ее.
– Ну… все-таки это кое-что, – ответил Макканн с раскрасневшимся лбом.
Прислонясь к одной из колонн, Стивен стал смотреть на группу поодаль. Там, в кольце подруг, стояла она, смеясь и болтая с ними. Гнев, которым наполнил его новоявленный журнал, ниспадал плавно, как прилив, и он решил увести свой ум к тому зрелищу, что являли она и ее подруги. Точно так же при вступлении в пределы семинарии Клонлифф неожиданное воспоминание пробудило неожиданную симпатию, симпатию-воспоминание об [изолированной] опекаемой жизни семинариста, все добродетели которой казались вызывающе выставлены напоказ мирскому беспутству, настолько вызывающе, что лишь крепкие стены и сторожевые собаки могли удержать их в тесном мирке робких и модничающих манер. Хотя выраженьям их чувств недоставало изящества, а вульгарность их нуждалась лишь в силе легких, чтобы стать еще более кричащей, однако дождь настраивал его на милосердие. Гомон студентов доходил до него словно издали, отдельными волнами, и, поднимая взгляд, он видел, как уплывают прочь высокие дождевые облака над дождеомытой страной. Быстрый и легкий ливень прошел, замешкавшись алмазною гроздью среди кустов на прямоугольнике двора, где подымался пар от почерневшей земли. Стайка в колоннаде портика покидала убежище, поглядывая наружу с сомнением, шелестя тонкими башмачками, мило оберегая юбки и направляя под искусно выбранными углами легкое вооружение зонтиков. Он видел их возвращение в монастырь – строгие коридоры, простые дортуары, тихие четки часов, – меж тем как облака дождя уплывали на запад и правильными волнами до него доходил гомон юношей. Он видел далеко-далеко посреди дождеомытой равнины высокое простое здание с окнами, едва пропускающими сумрачный свет дня. Триста шумливых и голодных мальчишек сидели за длинными столами, поедая говядину с каемкой зеленого жира, похожего на ворвань, и ломти сырого серого хлеба, и один малыш, опершись на локти, то затыкал, то оттыкал свои уши, и шум едоков доходил до него ритмичными волнами как дикий звериный рев.
– Должно существовать искусство жеста, – однажды вечером сказал Стивен Крэнли.
– Ну да?
– Разумеется, я имею в виду искусство жеста вовсе не в том смысле, как его понимает профессор риторики. Для него жест – усиление речи. Я же имею в виду ритм. Ты знаешь песню: «О, эта грусть желтых песков»?
– Нет.
– Вот она, – произнес юноша, делая каждою рукою грациозный анапестический жест. – Это ритм, ты видишь?
– Да.
– Я бы хотел в один прекрасный день выйти на Грэфтон-стрит и проделывать жесты посреди улицы.
– Я бы с удовольствием поглядел.
– Нет никаких причин, отчего жизнь должна утратить всю свою грацию и благородство, пусть даже Колумб и открыл Америку. Я буду жить жизнью свободной и благородной.
– Ну да?
– Искусство мое будет исходить из свободных и благородных истоков. Усваивать нравы этих рабов слишком невыносимо для меня. Я отказываюсь, чтобы меня насильственно оглупляли. Ты веришь в то, что одна строчка стихов может дать бессмертие человеку?
– А почему не одно слово?
– «Sitio» – вот классический возглас. Попробуй [и] это улучшить.
– Ты думаешь, что Иисус, вися на кресте, смаковал то, что ты называешь ритмом этого возгласа? Ты думаешь, что Шекспир, когда писал песню, выходил на улицу и проделывал жесты перед народом?
– Ясно, что Иисус не мог сопроводить свой возглас подобающе великолепным жестом, но мне не представляется, чтобы он произнес его бесцветным тоном. У Иисуса был подлинный чисто трагический стиль; его поведение во время суда достойно восхищения. Неужели ты думаешь, Церковь могла бы воздвигнуть вокруг его легенды такие изощренно художественные таинства, если бы в самой исходной фигуре не было некоего трагического величия?
– А Шекспир?..
– Не думаю, чтобы он хотел выйти на улицы, но уверен, что он сознавал и ценил собственную музыку. Я не верю, что красота – дело случая. Человек может думать семь лет, через какие-то промежутки, и потом вдруг написать единым духом строфу, которая обессмертит его – на первый взгляд, без размышления и труда, но только на первый взгляд. Потом зевака в партере будет говорить «Да, этот умел сочинять поэзию», а если я спрошу «И как это происходило?», зевака ответит «Да просто писал, и все тут».
– Я считаю, насчет ритма и жеста это все твоя выдумка. Тебя послушать, поэт это какая-то до жути запутанная личность.
– Ты так говоришь, потому что никогда раньше не видал поэта в работе.
– Откуда ты знаешь?
– Тебе кажется, мои теории – это высокопарные фантазии, правда?
– Чистая правда.
– Отлично, а я тебе скажу, что ты считаешь меня фантазером попросту потому, что я современен.
– Милый мой, это чистый вздор. Ты только и толкуешь о «современном». А ты представляешь, сколько времени земля стоит? Ты говоришь, ты очень эмансипированный, а на мой взгляд, ты пока что не пошел дальше первой книги Бытия. Нет таких вещей, как «современное» или «древнее», – это одно и то же.
– Что одно и то же?
– Древнее и современное.
– Ну да, знаю: любое ничем не отличается от любого другого. Конечно, я знаю, что слово «современный» всего лишь слово. Но когда я его применяю, я в него вкладываю определенный смысл…
– К примеру, какой?
– Дух современности – вивисекторский дух. Вивисекция – самый современный процесс, какой можно себе представить. Дух древности весьма неохотно мирился с реальными явлениями. Древний метод рассматривал закон с фонарем справедливости, мораль – с фонарем откровения, искусство – с фонарем традиции. Но все эти фонари обладают волшебным свойством: их свет изменяет и искажает. Современный метод исследует свою территорию при свете дня. Италия дала цивилизации науку, отставив фонарь справедливости и начав рассматривать [действия] преступника в его становлении и действии. Любой современный критический подход в политике и религии отправляет в отставку все презумпции касательно всех Государств, Искупителей и Церквей. [и] Он рассматривает все сообщество в целом и в действии и воссоздает весь спектакль искупления. Если б ты был философ-эстетик, ты бы взял на заметку все эти мои бредни, потому что в них перед тобой вся картина эстетического чувства в действии. Факультету философии следовало бы приставить ко мне сыщика.
– Тебе известно, я думаю, что Аристотель основал биологическую науку.
– За все блага мира я не скажу ничего против Аристотеля, но только при разборе «неточных» наук его дух, мне кажется, себя проявляет не в самых своих лучших свойствах.
– Мне интересно, как бы Аристотель расценил тебя как поэта?
– Черта с два я бы стал перед ним оправдываться. Пускай он меня изучает, если у него выйдет. Ты можешь себе представить прекрасную женщину, которая рассыпалась бы: «Ах, мистер Аристотель, ах, простите меня, что я так прекрасна»?
– Он был великий мудрец.
– Да, но я не думаю, что он был бы особым покровителем тех, кто пропагандирует полезность ходьбы на месте.
– Что ты хочешь сказать?
– Ты не замечал, как абстрактные термины звучат фальшиво и нереально, когда их произносят эти замшелые в нашем колледже? Ты видел, какие они подняли разговоры вокруг своего нового журнала. Макканн, они веруют, выведет их из пленения египетского. Этот журнальчик их, он тебя не заставляет твердить про себя «О боже, какое счастье, что у меня с этим ничего общего»? Вот та кукольная жизнь, какую отцы иезуиты дозволяют этим послушным юношам, ее я и называю ходьбой на месте. Марионеточная жизнь, какую ведет сам иезуит, как раздатчик праведности и света истины, – вот тебе еще вариант ходьбы на месте. И при этом оба вида марионеток думают, будто Аристотель их оправдывает перед всем миром. Будь добр, припомни чудовищную легенду, что управляет всем их существованием, – до чего аристотелианская, а? Будь добр, припомни все мельчайшие правила, где вычислено точное количество спасения в каждом благом деянии – какое аристотелевское изобретение!
Однажды вечером, когда оставалось с неделю до Рождества, Стивен стоял в колоннаде Библиотеки. Из здания вышла Эмма и остановилась побеседовать с ним. Она была в уютном, теплом твидовом одеянии, и ровные витки длинного белого боа открывали улыбающееся личико морозному воздуху. При виде такой счастливой сияющей фигурки среди безрадостного пейзажа любой нормального устройства юноша ощутил бы неудержимое желание сжать ее в объятиях. Небольшая шляпка темного меха делала ее похожей на куклу с рождественской елки, а неисправимые глаза говорили, казалось: «А вам не хотелось бы меня приласкать?» Она тут же принялась щебетать. Она знала ту, которая написала «Девушку-товарища», это девушка с большими способностями к таким вещам. А у них в монастыре был тоже журнал, и она туда пробовала писать «скетчи».
– Между прочим, я про вас слышу жуткие вещи.
– Как так?
– Все говорят, у вас жуткие идеи, вы читаете жуткие книги. Говорят, вы мистик или в этом духе. Знаете, что одна девушка мне сказала?
– Нет, а что?
– Что вы не верите в Бога.
Они шли по Грину за цепным ограждением, и когда она это сказала, она чуть сильней послала к нему тепло своего тела, и ее глаза глянули на него с выражением заботливого участия. Ответный взгляд Стивена был тверд.
– Не будем о Боге, Эмма, – произнес он. – Вы меня занимаете гораздо больше, чем этот старый джентльмен.
– Какой джентльмен? – спросила она наивно.
– Пожилой джентльмен, владеющий птичником, – Иегова Второй.
– Не надо при мне говорить такие вещи, я ведь уже просила вас.
– Хорошо-хорошо, Эмма. Я вижу, вы страшитесь потерять веру. Но вам нечего страшиться моего влияния.
Они прошли от Грина до самой Южной Кольцевой, не пробуя возобновить разговор. С каждым шагом решимость Стивена расстаться с ней и никогда больше ее не видеть становилась прочней и глубже. Даже в качестве развлеченья, ее общество действовало слегка разрушающе на его чувство собственного достоинства. Проходя под большими деревьями на Молл, она замедлила шаг и, когда они вышли из полосы света фонарей на мосту, остановилась сама, без его побуждения. Стивена это очень удивило: час и место придавали их положению двусмысленность и, хотя она выбрала для остановки глубокую тень деревьев, дерзость эта совершалась уже вблизи от ее дома. С минуту они прислушивались к тихому журчанью воды, глядя, как к середине моста ползет на подъем трамвай.
– Я правда так сильно занимаю ваши мысли? – произнесла наконец она глубоким и значительным тоном.
– Да, без сомнения, – сказал Стивен, стараясь попасть в ее тон. – Я знаю, какая вы живая, человеческая.
– Но живых людей множество.
– Вы женщина, Эмма.
– Вы меня бы уже назвали женщиной? Вам не кажется, что я еще девочка?
В течение нескольких мгновений взгляд Стивена обходил рискованные территории, меж тем как ее полуприкрытый взор переносил это вторжение без упрека.
– Нет, Эмма, – проговорил он. – Вы больше уже не девочка.
– Но вы еще не мужчина, правда? – быстро откликнулась она; и было заметно даже в тени, как гордость, юность, желание начинают горячить ее щеки.
– Я желторотый, – отвечал Стивен.
Она чуть сильней подалась к нему, и в ее глазах вновь появилось выражение заботливого участия. Тепло ее тела, казалось, перетекало в его тело – и без минуты колебаний он сунул руку в карман и принялся нащупывать там монеты.
– Мне надо идти, – сказала она.
– Доброй ночи, – сказал он с улыбкой.
Когда она вошла в дом, он направился берегом канала, по-прежнему в тени оголенных деревьев, тихо напевая себе под нос из службы Великой Пятницы. Он думал о том, что он сказал Крэнли, – когда люди любят, они отдают, – и произнес громко вслух: «Я больше никогда не буду говорить с ней». Когда он проходил у нижнего моста, из темноты появилась женщина и сказала: «Привет, миленький». Остановясь, Стивен посмотрел на нее. «Она была маленького роста, и даже в эту морозную пору от ее одежды несло застарелым потом. Над остекленелым лицом была надвинутая на гулящий манер соломенная черная шляпка. Она предложила ему пройтись с ней недалеко. Не отвечая ей и не прерывая страстной напев, Стивен переместил свои монеты в ее руку и продолжал путь.» Удаляясь и слыша ее благословения за своей спиной, он принялся размышлять о том, что совершенней с литературной точки зрения: рассказ о смерти Иисуса, данный Ренаном или же данный евангелистами. Однажды ему пришлось слышать, как проповедник, исполнясь благочестивого ужаса, намекал, что существует теория, пущенная каким-то литературным агентом сатаны и утверждающая, будто Иисус был маньяком. Женщина в черной шляпке не поверила бы никогда, что Иисус маньяк, и Стивен разделял ее мнение. Бесспорно, он великий образец для холостяков – сказал он себе – но все-таки для божественной личности он слишком уж печется насчет себя. Женщина в черной шляпке никогда не слыхивала о Будде, а характер Будды, пожалуй, превосходил характер Иисуса в том, что касается бесстрастной святости. Интересно, как бы понравилась ей эта история, как Яшодхара целовала Будду уже после его просветления и покаяния. Иисус Ренана малость буддийский, но западные люди, ярые обжоры и выпивохи, нипочем бы не стали поклоняться такому. Кровь требует крови. Есть люди на этом острове, у которых религиозное чувство находит выход в пении гимна «Омыты в крови Агнца». Возможно, это вопрос [порыва] диеты, но я бы все-таки предпочел омовение в рисовой воде. Уфф! Как подумаешь! Кровавая баня, чтобы очистить тело духовное от всех грешных потовыделений… Чувство декорума заставляет ту женщину носить соломенную шляпку в разгар зимы. Она мне сказала: «Привет, миленький». Самое любящее существо всех времен не сможет сказать ничего большего. Вы только подумайте – «Привет, миленький». Сатана должен разгневаться, когда ее будут называть исчадием сатаны.
– Я не собираюсь больше встречаться с ней, – сообщил Стивен Линчу несколько вечеров спустя.