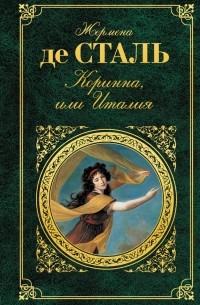Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Книга третья. Коринна
Глава первая
Граф д’Эрфейль тоже был на празднике на Капитолии; на другой день, зайдя к лорду Нельвилю, он сказал ему:
– Дорогой Освальд, хотите, я поведу вас сегодня вечером к Коринне?
– Как! – прервал его Освальд. – Вы с нею знакомы?
– Нет, – ответил граф д’Эрфейль, – но столь знаменитой особе всегда бывает лестно, когда хотят ее видеть, и я написал ей нынче утром письмо, прося позволения посетить ее сегодня вечером вместе с вами.
– Я предпочел бы, – заметил, покраснев, Освальд, – чтобы вы не называли моего имени без моего разрешения!
– Поблагодарите меня за то, что я избавил вас от скучных формальностей! – возразил граф д’Эрфейль. – Вместо того чтобы пойти к посланнику, который повел бы вас к кардиналу, а тот – к какой-нибудь знатной даме, которая ввела бы вас в дом к Коринне, я представлю ей вас, вы представите ей меня, и отличный прием обеспечен нам обоим.
– Я не столь самонадеян, как вы, и имею на то основание, – произнес лорд Нельвиль. – Я опасаюсь, как бы такая поспешность не вызвала неудовольствия Коринны.
– Ничуть не бывало, уверяю вас, – сказал граф д’Эрфейль, – она слишком умна для этого и очень любезно мне ответила.
– Как! она вам ответила? – воскликнул лорд Нельвиль. – И что же она вам написала, дорогой граф?
– Ого! уже дорогой граф! – смеясь, подметил граф д’Эрфейль. – Вы сменили гнев на милость, как только узнали, что Коринна ответила мне! Но в конце концов, «я вас люблю, и все прощено!». Должен признаться, что в своем письме я больше говорил о себе, чем о вас, но сдается мне, что она в ответном письме назвала ваше имя раньше моего; впрочем, я никогда не завидую моим друзьям…
– Разумеется, – молвил лорд Нельвиль, – я не думаю, чтобы кто-нибудь из нас мог льстить себя надеждой понравиться Коринне; что до меня, то единственно, чего я желаю, это изредка наслаждаться обществом такой удивительной женщины. Итак, до вечера, уж если вы все так устроили!
– Значит, вы едете со мной? – спросил граф д’Эрфейль.
– Ну да! – ответил лорд Нельвиль в явном смущении.
– Тогда почему же, – спросил граф д’Эрфейль, – вы так негодовали на то, что я предпринял этот шаг? вы кончаете тем, чем я начал; но вам угодно было проявить большую сдержанность, чем я, тем более что вы ничего от этого не потеряли! А Коринна действительно прелестное создание: так умна, так привлекательна! Я не очень хорошо понял, что она там говорила, но, судя по ее виду, готов биться об заклад, что она превосходно говорит по-французски. Впрочем, мы это узнаем сегодня вечером. Она ведет весьма странный образ жизни: молода, богата, свободна, но нельзя с уверенностью сказать, есть ли у нее любовник или нет. Однако сейчас она, кажется, никому не отдает предпочтения; впрочем, – прибавил он, – если она не может встретить здесь человека достойного ее, меня это ничуть не удивляет!
Граф д’Эрфейль продолжал еще некоторое время болтать в том же духе, не получая от Освальда никакого ответа. Хотя в словах графа д’Эрфейля и не было ничего непристойного, развязный и легкомысленный тон, каким он всегда говорил о том, что глубоко затрагивало его собеседника, задевал тонкую чувствительность Освальда. Бывает такого рода душевная деликатность, которой не могут научить ни ум, ни привычка к светскому обществу; и как часто можно ранить сердце, не нарушая при этом строгих правил приличия!
Весь день лорд Нельвиль не мог успокоиться, думая о предстоящем визите к Коринне; он старался отгонять тревожные мысли, силясь уверить себя, что можно найти отраду и в чувстве, которое не решает судьбу всей жизни. Обманчивая уверенность! ведь нам не доставляет радости чувство, которое мы сами считаем недолговечным.
Лорд Нельвиль и граф д’Эрфейль подъехали к дому Коринны, расположенному на Транстеверинской стороне, немного поодаль от замка Святого Ангела. Вид на Тибр придавал особую прелесть этому дому; внутреннее убранство его отличалось величайшим изяществом. Зал украшали гипсовые слепки со знаменитейших итальянских статуй: Ниобеи, Лаокоона, Венеры Медицейской, Умирающего гладиатора; в кабинете, где обычно проводила время Коринна, было много книг, различных музыкальных инструментов; простая, но покойная мебель была расставлена так, что располагала к непринужденной дружеской беседе. Коринна еще не вышла, и в ожидании ее прихода Освальд в сильном волнении ходил взад и вперед по комнате; в любой мелочи ее обстановки он примечал счастливое сочетание наиболее привлекательных особенностей французской, английской и итальянской наций: общительность, любовь к наукам, развитое чувство изящного.
Наконец появилась Коринна: наряд ее был незатейлив, но живописен. В волосах ее прятались античные камеи, на шее было надето коралловое ожерелье. Радушная манера, с какой она встретила гостей, была исполнена свободы и достоинства; богиню вчерашнего торжества на Капитолии можно было узнать даже в ее домашнем кругу, хоть она и держалась как нельзя более просто и естественно. Она приветствовала первым графа д’Эрфейля, но глядела в это время на Освальда; затем, словно устыдившись несвойственного ей притворства, приблизилась к Освальду; имя лорда Нельвиля явно производило на нее особенное действие: голос ее дрожал, когда она дважды его произнесла, словно оно вызывало в ней какие-то волнующие воспоминания.
Наконец Коринна в нескольких любезных словах поблагодарила по-итальянски Освальда за услугу, которую он ей вчера оказал, подняв упавший с ее головы венок. С трудом подбирая слова, он попытался выразить ей свое восхищение и мягко посетовал на то, что она не говорит с ним по-английски.
– Разве сейчас я более чужд вам, чем вчера? – спросил он.
– Конечно нет! – ответила Коринна. – Но когда человек, подобно мне, много лет говорит на нескольких языках сразу, он всегда выбирает из них тот, который более соответствует чувству, владеющему им в данную минуту.
– Но, очевидно, родной ваш язык английский, тот язык, на котором вы беседуете с друзьями, тот…
– Я итальянка! – прервала его Коринна. – Простите меня, милорд, но мне кажется, что я замечаю в вас то национальное высокомерие, каким столь часто отличаются ваши соотечественники! Мы, итальянцы, более скромны: мы не так самодовольны, как французы, и не так надменны, как англичане. От иностранцев мы ждем лишь немного снисходительности; но мы давно уже утратили право считаться нацией и нередко грешим тем, что в частной жизни не проявляем того достоинства, в котором нам отказано как народу; впрочем, когда вы поближе узнаете итальянцев, вы увидите, что в их характере и поныне сохранились черты древнего величия, черты не слишком заметные, встречающиеся не часто, но которые могли бы возродиться при более счастливых обстоятельствах. Иногда я буду разговаривать с вами по-английски, но не всегда; итальянский язык мне дорог; я много выстрадала, – сказала она, вздохнув, – чтобы иметь возможность жить в Италии.
Тут в разговор вмешался граф д’Эрфейль и стал почтительно укорять Коринну в том, что она совсем забыла о нем, говоря на непонятном ему языке.
– Прекрасная Коринна! – взмолился он. – Сделайте милость! говорите по-французски! вы этого поистине достойны!
Коринна улыбнулась при этом комплименте и заговорила по-французски – очень чисто, весьма бегло, но с английским произношением. Лорд Нельвиль и граф д’Эрфейль оба равно удивились; а граф д’Эрфейль, полагавший, что говорить можно решительно обо всем, лишь бы это было сказано с приятностью, и не подозревавший, что можно быть неучтивым не только по форме, но и по сути, напрямик спросил Коринну, чем объясняется подобная странность. При этом неожиданном вопросе она сперва немного растерялась; потом, оправившись от минутного смущения, ответила:
– Очевидно, граф, это объясняется тем, что французскому языку меня обучал англичанин.
Он засмеялся, но продолжал настойчиво допрашивать ее. Приходя все в большее замешательство, она сказала ему наконец:
– Вот уже четыре года, граф, как я поселилась в Риме, и никто из друзей моих, из тех, кто – я верю этому – принимает во мне искреннее участие, не допытывается у меня о моей судьбе; они сразу поняли, что мне было бы тягостно говорить об этом.
Эти слова заставили графа д’Эрфейля прекратить свои расспросы. Но у Коринны мелькнула мысль, не обидела ли она его, и она постаралась быть с ним как можно любезнее; не отдавая себе отчета, она опасалась, как бы граф, очевидно весьма близкий к лорду Нельвилю, не отозвался бы дурно о ней своему другу.
В это время приехал князь Кастель-Форте в сопровождении нескольких римлян – друзей своих и Коринны. Все это были люди с живым, игривым умом, очень приятные в обхождении; они так легко воодушевлялись в общем разговоре, так быстро отзывались на все достойное внимания, что беседовать с ними доставляло величайшее удовольствие. Беспечные итальянцы нередко ленятся выказывать в обществе свой прирожденный ум; но, находясь и в уединении, они большей частью не развивают своих умственных способностей; зато они с наслаждением пользуются тем, что дается им без труда.
В Коринне было много юмора: она подмечала смешные черточки людей с проницательностью француженки и умела изображать их с живостью итальянки. Но во всех ее шутках чувствовалась сердечная доброта: в них не было ничего злонамеренного и язвительного; ведь ранит лишь холодная насмешливость, а веселая игра воображения, напротив, почти всегда добродушна.
Освальд находил в Коринне бездну обаяния, и совершенно нового для него обаяния. Самые важные и трагические обстоятельства его жизни были связаны с воспоминаниями об одной очень изящной и остроумной француженке, но Коринна ничем не напоминала эту женщину; речи ее обличали разносторонний ум; в них проявлялись и восторженная любовь к искусствам, и знание света, тонкость понимания и глубина чувств; при всей непосредственной живости ее натуры, придававшей ей немало прелести, ее суждения никак нельзя было назвать необдуманными и поверхностными.
Освальд был изумлен и вместе с тем очарован, одновременно встревожен и восхищен; он не мог постигнуть, как в одном человеке совмещалось все, чем обладала Коринна; он спрашивал себя: говорит ли сочетание столь противоположных черт в характере Коринны о непостоянстве или же о совершенстве; он недоумевал: что позволяло Коринне – способность ли полностью отдаваться впечатлениям минуты или же умение немедленно все забывать, – что позволяло ей почти мгновенно переходить от грусти к радости, от задумчивости к резвости, от беседы, поражающей обширными познаниями и зрелыми мыслями, к кокетству женщины, которая хочет нравиться и умеет пленять! Но и в кокетстве ее было так много благородства, что оно внушало не меньше почтения, чем самая строгая сдержанность.
Князь Кастель-Форте был целиком поглощен Коринной; все итальянцы, составлявшие ее общество, выражали ей свои чувства неусыпными заботами и нежными знаками внимания: постоянное поклонение, каким они ее окружали, озаряло всю ее жизнь праздничным светом. Коринну радовало сознание, что она так любима, но это была радость человека, который живет в благодатном климате, слышит гармонические звуки и получает лишь приятные впечатления. Однако более серьезное и глубокое чувство, чувство любви, не отражалось на ее лице, всегда столь живом и выразительном. Освальд глядел на нее в молчании; его присутствие воодушевляло Коринну, внушало ей желание быть привлекательной. Однако она порой умолкала в самом разгаре блестящей беседы, пораженная наружным спокойствием Освальда, не зная, одобряет ли он ее или же втайне порицает и может ли человек с английским образом мыслей относиться благосклонно к шумным успехам женщины в обществе.
Освальд был слишком пленен Коринной, чтобы вспомнить свои былые суждения о том, что женщине приличествует держаться в тени; но он спрашивал себя, можно ли заслужить ее любовь? Может ли человек вместить в себе подобное счастье? Он был так ошеломлен и смущен, что, несмотря на ее учтивое приглашение посетить ее снова, провел весь следующий день у себя дома, не видя ее, испытывая какой-то страх перед чувством, которое им овладело.
Порою он сравнивал новое чувство с пагубным заблуждением своей ранней юности, но потом с негодованием отвергал это сравнение: ведь тогда он подпал под власть женщины, действовавшей с помощью хитрых, вероломных уловок, а искренность Коринны не вызывала и тени сомнения. В чем же заключалась ее притягательная сила? В ее волшебных чарах? В ее поэтическом вдохновении? Кто она – Армида или Сафо? Может ли он надеяться завоевать когда-нибудь этого гения с блистающими крыльями? Он никак не мог решить этот вопрос; во всяком случае было ясно, что не общество, а само Небо создало эту женщину, не способную ни подражать кому-либо, ни притворяться.
– Отец мой! – воскликнул Освальд. – Если бы ты увидел Коринну, что бы ты подумал о ней?