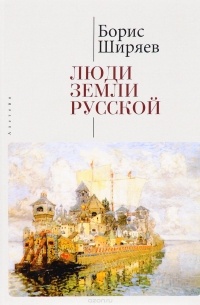Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Замолчанный историей
Не будет большою редкостью встретить интеллигентного русского человека, окончившего среднее и даже высшее учебное заведение до революции, т. е. тогда, когда во всех классах гимназии преподавалась отечественная история, который, услышав имя царя Феодора III Алексеевича, недоуменно поднимет брови и лишь потом, прикинув что-то в уме, скажет:
– Ах, да, это сын царя Алексея Михайловича, наследовавший ему перед Петром… Болезненный и даже слабоумный… Не оставивший по себе никакого следа… Пустое место на страницах истории…
Этот интеллигент будет в известной степени прав. Короткому царствованию Феодора Алексеевича составители утвержденных для средней школы дореволюционных учебников уделяли действительно лишь несколько незначительных строк, которые создавали у учащихся впечатление об этом царствовании, как о каком-то прорыве в Российской истории, о пустом месте в ней.
Но так ли это было на самом деле?
Наследовавшему престол от своего рано умершего отца царю Феодору Алексеевичу было суждено принять Российское государство в очень трудный его период.
Внешняя политика России была осложнена далеко еще не решенной борьбою за освобождение южной и юго-западной Руси от длившейся уже почти три века польско-литовской интервенции; общее военное положение ко дню кончины царя Алексея Михайловича складывалось для России далеко не благоприятно: в Польше в это время установился некоторый твердый государственный порядок взамен феодального хаоса, разрывавшего ее при короле Иоанне-Казимире; многочисленные конференции русских и польских дипломатов безуспешно искали решения вопроса и бывали принуждены пользоваться компромиссами временных перемирий; кроме того, в борьбу вступила новая мощная сила в лице привлеченной Польшей Оттоманской Империи и эта сила действовала против России; сама южная Русь пребывала в состоянии полного политического хаоса, то распадаясь на сферы влияния отдельных гетманов, то временно объединяясь, под давлением со стороны какой-либо из борющихся сил; военная же активность самого Русского царства была заторможена его внутренними противоречиями, главнейшими из которых были: достигший кульминации своего напряжения раскол в русской Церкви и тесно связанная с ним борьба боярских партий в самом Кремле.
Эта обычная для русской боярской аристократии борьба была осложнена также и чисто династическими интимными отношениями в составе самой лишившейся своего главы царской семьи. Шесть царевен, сестер Феодора Алексеевича, рожденных от брака с Милославской, ожесточенно ненавидели свою мачеху, Наталью Кирилловну Нарышкину, мать царевича Петра, на стороне которой находился личный друг и руководитель московской политики последних лет царствования Алексея Михайловича боярин Артамон Сергеевич Матвеев, против которого стояла мощная партия старого боярства, потомков удельных княжат, имевшая в своих рядах влиятельные роды Милославских, Долгоруких, Куракиных, Стрешневых и других.
Столь сложная ситуация как во внешних политических отношениях государства, так и внутри его правящего слоя не могла быть, конечно, разрешена и ликвидирована принявшим скипетр одиннадцатилетним мальчиком, к тому же действительно не обладавшим крепким здоровьем, больным каким-то неизлечимым недугом ног (по всей вероятности водянкой), но вместе с тем далеко не слабоумным и слабохарактерным, каким его старались представить наши либеральные историки.
Рассмотрим лишь дошедшие до нас сухие и скупо изложенные акты этого царствования, а предварительно и самую личность царя Феодора. Назвать его слабоумным – полная нелепость. Он получил очень хорошее по тому времени образование и воспитание под руководством учившегося как в Киевской академии, так и в западно-европейских коллегиях Симеона Полоцкого, знавшего несколько древних и новых языков, публициста, писателя и даже не очень-то талантливого, но добросовестного поэта, вложившего свой камень в фундамент русского стихосложения. По точным сведениям, сам царь Феодор знал польский язык и латынь, возможно, что имел некоторые знания французского языка, которым владела его старшая сестра София. Сохранился также составленный в его царствование проект первого русского высшего учебного заведения, осуществлению чего помешали внутренние неурядицы, но следует отметить то, что в программе этого высшего учебного заведения стояли не только обязательные по тому времени духовные дисциплины, но и точные науки: математика, физика и другие, следовательно, о какой-то «враждебности» московской монархии к достижениям западноевропейской техники говорить в этом случае не приходится.
Скудную по дошедшим до нас сведениям характеристику этого юноши-монарха необходимо дополнить также его несомненным большим внутренним тактом, т. к., несмотря на молодость, ему к концу его недолгого царствования все же удалось привести к некоторому примирению политические страсти в боярстве и духовные в среде церковных иерархов: сосланный в начале царствования Матвеев был возвращен, а гонения на группу приверженцев низложенного патриарха Никона и на самого его были ослаблены.
Рассматривая внутриполитические акты этого царствования, следует, прежде всего, отметить начатое всеобщее государственное размежевание и тесно связанное с ним урегулирование податной системы. Целый ряд местных налогов был упразднен; упразднены были и винные откупа, а вместе с ними и внутренние таможенные сборы. Эти реформы были проведены в созвучии с развитием местного самоуправления. Торговля вином была передана выборным населением целовальникам и «верным головам» из среды торгово-промышленного сословия. Одновременно с мероприятиями финансово-экономического порядка были проведены и реформы судопроизводства. Уголовные дела, разбиравшиеся до того времени в нескольких разобщенных между собою приказах, были сосредоточены в одном лишь Разбойном приказе. Были начаты дополнения к Уложению, и был составлен ряд новых, соответствовавших требованиям времени его статей. Для облегчения и упорядочения церковной администрации был утвержден совместно с Собором ряд новых епископий: в Севске, Холмогорах, Устюге, Енисейске и других отдаленных от Московского центра областях.
В январе 1682 г. уже вышедшим из отроческого возраста царем Феодором был созван чрезвычайно интересный по своей организаций Собор военно-служилых людей всякого звания, т. е. не только занимавших высшие командные должности, но и низовых, «территориальных», как мы сказали бы теперь, офицеров. На обсуждение этого Собора был поставлен целый ряд вопросов «устроения и управления ратного дела» и в самом указе о созыве такого Собора значилось, что его члены должны будут обратить особое внимание на «новые в ратных делах вымыслы», т. е. разработать новую, отвечавшую требованиям века, систему организации армии и рассмотреть ряд связанных с нею военно-технических вопросов. Идея, осуществленная в царствование Петра I, была не только предвосхищена его старшим единокровным братом, но к осуществлению ее были им привлечены широкие круги военных специалистов всех рангов, что тоже заслуживает очень большого внимания. Этот Собор военных специалистов не только рассмотрел и дал свои заключения по предложенным ему военно-техническим вопросам, но вышел даже далеко за рамки чисто военного дела, решительно поставив вопрос об уничтожении реакционного по тому времени феодального пережитка – местничества, тормозившего, а временами даже полностью парализовавшего, как прогрессивную деятельность Московских монархов, так и выдвижение новых жизненных сил общества. Вопрос этот был поставлен настолько решительно, что консервативная труппа родовитого боярства, грудью стоявшая за эту охранявшую их и ограничивавшую самодержавную власть аристократическую конституцию, была побеждена. Разрядные книги, писаная феодально-аристократическая конституция, были полностью уничтожены. Это важнейшее государственное мероприятие открыло путь к управлению царством новым людям, новым силам, укрепив одновременно власть монарха и ограничив дальнейшее развитие государственной жизни от шедших с Запада (из Польши) феодальных тенденций, приверженцами которых были консервативные круги русской боярской аристократии.
Таков, вкратце, след, оставленный в русской истории общепризнанным «пустым местом» – немногими годами царствования болезненного юноши царя Феодора II Алексеевича. Перечисленных здесь прогрессивных мероприятий, пожалуй, более чем достаточно для заполнения этого «пустого места». Но вместе с тем историк должен быть далеким от стремления сусально идеализировать личность этого царя-отрока, приписывать ей те качества, которых у нее не могло быть. Безусловно, нельзя предполагать, а тем более утверждать сильную волю у неопытного, болезненного юноши, умершего до наступления его совершеннолетия, а принявшего державную власть еще ребенком. Историк может предположить в нем ясный ум и глубокий внутренний такт – свойства, унаследованные им от отца и усиленные хорошим воспитанием, может утверждать его личную доброту и гуманность, выраженную в отношениях к павшим Матвееву, патриарху Никону, а также и в упразднении некоторых особо жестоких форм казней и судопроизводства, но не может приписать ему ведущего значения в государственной жизни времени его царствования. Действовавшие в нем прогрессивные факторы следует искать в ином, в установившемся к этому времени твердом самодержавно-монархическом порядке и прогрессивной направленности этого порядка.
Выражаясь прямолинейно, упрощенно, а возможно даже грубо, можно сказать: по кончине царя Алексея Михайловича утвержденный им самодержавный государственный порядок продолжал действовать даже без непосредственного участия в нем самой физической личности самодержца. Эту физическую личность успешно заменял ее символ, воплощенный в лице болезненного мальчика государственный принцип. А поскольку этот принцип отвечал духу и требованиям того времени, сама одухотворенная им человеческая личность Венценосца успешно выполняла функции своего царственного служения нации.
«Наша страна»,
Буэнос-Айрес, 28 марта 1957 г
№ 375, с. 4.