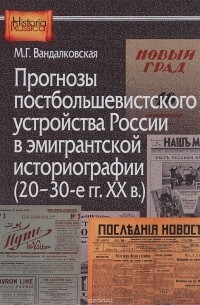Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Георгий Петрович Федотов
Россия, ее история и культура занимали одно из главных мест в творчестве религиозного мыслителя, замечательного русского историка и публициста Георгия Петровича Федотова. Г. П. Федотов родился 1 октября 1886 г. в Саратове, где его отец служил чиновником в губернаторской канцелярии; мать была учительницей музыки. По его воспоминаниям, в детстве он жил в православной среде, увлекаясь духовной литературой. В гимназии под влиянием революционно-демократической публицистики, марксистской литературы в его мировоззрении совершается поворот от религиозной веры к революционной действенности. После окончания гимназии Федотов поступил в Петербургский Технологический институт «как наиболее демократический» в надежде стать инженером и быть ближе к рабочей среде. Во время революции 1905 г. он был арестован за пропаганду революционных идей и приговорен к ссылке в Архангельскую губернию. Но благодаря ослаблению полицейского режима при Святополк-Мирском и семейным связям ссылка была заменена высылкой за границу на два года.
Это время для Федотова было насыщено огромной интеллектуальной работой. Он слушал лекции по истории и философии в университетах Берлина и Йены. После возвращения в Россию он поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Здесь, под влиянием его учителя И. М. Гревса, создателя блестящей петербургской школы медиевистов, формировались научные взгляды Федотова. В его окружении в эти годы находились будущий религиозный философ Л. П. Карсавин, С. С. Безобразов (впоследствии епископ Кассиан Катанский), В. В. Вейдле, в дальнейшем критик и литературовед, профессор богословского института, О. А. Добиаш-Рождественская, получившая известность как медиевист, источниковед, палеограф, и др.
Необычное трудолюбие, эрудиция, самодисциплина, талант глубоко проникать в суть изучаемых тем обусловили дальнейшее пребывание Федотова в университете для подготовки к профессорскому званию. После сдачи магистерских экзаменов (1914–1915 гг.) Федотов получил приват-доцентуру по кафедре средних веков. С 1917 г. он должен был приступить к чтению лекций в университете. Однако студентов, записавшихся на курсы лекций по средневековью, оказалось недостаточно для открытия курса. Во время революции 1917 г. Федотов не проявлял никакой политической активности, целиком погрузившись в религиозно-философские размышления.
Осенью 1917 г. Федотов поступил на работу в отдел истории Публичной библиотеки, где познакомился с философом А. А. Мейером и известным религиозным деятелем А. В. Карташевым, под воздействием которых развивалось его религиозно-христианское мировоззрение.
В советские годы Федотов работал переводчиком в разных издательствах, писал статьи о европейской культуре. В 1924 г. вышла единственная изданная в России книга Федотова «Абеляр». В этой книге трагическая судьба религиозной личности была показана как отражение историко-культурной эпохи. Эта тема станет одной из ведущих в трудах Федотова, посвященных разным конкретно-историческим условиям.
Критическое отношение к советской действительности, трудности быта, гонения на свободную творческую мысль заставили Федотова эмигрировать из России. В 1925 г. он поселился в Париже. В научном творчестве он успешно сочетал темы западной и российской истории. Для многих российских эмигрантов-интеллектуалов, как и для Федотова, обращение к России, ее истории и культуре являлось не только академическим занятием, но и актуальной жизненной темой. Труды Федотова разных лет «Святой Митрополит Московский», «Святые Древней Руси», «И есть, и будет», «Социальное значение христианства», «Эсхатология и культура», многочисленные статьи в евразийских «Верстах», в бердяевском «Пути», в издании Керенского «Новая Россия», в «Современных записках», в «Новом журнале» и в других органах печати сохраняют научную ценность и по сей день. Этому способствовали высочайший профессионализм и талант ученого.
Значительным событием в эмигрантской общественной мысли был выход в свет журнала «Новый град» (1931–1939), в котором Федотов, наряду с Ф. А. Степуном и И. И. Бунаковым-Фондаминским, играл ведущую роль. Создатели журнала были единодушны в осознании несовершенства и несостоятельности духовной атмосферы современности, европейских демократических режимов, тоталитарного государственного устройства, фашистских государств, Советской России и глубоко осознавали необходимость обновления европейской и российской жизни. Журнал по существу создавал программу Возрождения новой демократической России, в которую Федотов внес значительный вклад. Новаторство «Нового града» состояло в синтетическом подходе к осмыслению общественно-политической обстановки, в которую включались проблемы западной и российской истории, современности, темы культурной и духовной жизни общества.
Научно-публицистическое наследие Федотова в эмиграции высоко оценивалось современниками. Его признавали незаурядным мыслителем, талантливым автором созданной им «философии истории», или «философии культуры», а также блестящим стилистом, художником слова. Полемическое искусство Федотова оценивалось как выражение бескомпромиссной нравственной позиции и независимости суждений.
В эмиграции Федотов вел и большую преподавательскую работу: читал лекции по истории Западной церкви, вел занятия по латинскому языку, агиологии в Парижском богословском институте. Начало Второй мировой войны, оккупация Парижа, неприятие нацистского режима заставили его перебраться на юг Франции. Но вскоре он решил покинуть Европу и переехал в США. Там он преподавал в Йельском университете, а затем в Нью-Йорке в Свято-Владимирской семинарии, публиковал статьи в «Новом журнале». 1 сентября 1951 г. Федотов скончался в госпитале города Бэкона за чтением «Вильгельма Мейстера» Гете. Кончина за чтением книги, по свидетельству М. Карповича, была им предсказана.
Литература о Федотове незначительна. Наибольшую научную ценность, как представляется, составляют статьи о нем современников, в частности, М. М. Карповича, Ф. А. Степуна. Карпович, автор посмертной статьи о Федотове, писал, что «своеобразие ума и таланта Г. П. делает очень трудной характеристику его литературной и общественной деятельности – если пользоваться для этой цели рубриками традиционной, или рутинной классификации… его никак не удастся уложить ни на одну из этих прочно сколоченных, но порядочно запыленных полочек».
Действительно, и славянофильство, и западничество воспринималось им не в традиционно-консервативном, косном варианте. Со славянофилами его роднила религиозность, верность национальным традициям, с западничеством – принцип политической свободы, приверженность к демократии, обеспечивающей свободу и социальную справедливость. Карпович вполне обоснованно называл Федотова религиозным западником, политическим и христианским демократом и социалистом.
Яркой по форме и многоплановой по содержанию являлась статья Степуна о Федотове. Их содружество в «Новом граде» отличалось взаимопониманием и большим доверием. Степун относил Федотова к людям культуры Возрождения, называл его гражданином мира, русским патриотом, вселенским христианином и православным демократом. Он видел в Федотове и ученого-историка, и страстного политического полемиста. Вместе с тем, Степун отмечал, что его высказывания, в том числе научные, таят в себе печать этически-волевых импульсов, а писательское оформление мыслей имеет скорее эстетический, чем научно-дисциплинированный характер. Это утверждение представляется не совсем точным. Федотов, пройдя историческую школу Гревса, обладал глубокими знаниями и высоким профессиональным мастерством. Присущие ему импульсы скорее можно отнести к форме выражения мыслей, чем к их содержанию. Что касается эстетического характера писательского стиля Федотова, то в этом проявлялась свойственная ему свобода творчества и чуждость стереотипности, сухой манере изложения исторического материала, часто характерной для научных трудов. В статье Степуна проявились и некоторые мировоззренческие разногласия с Федотовым. Степун укорял Федотова в том, что приход к православию не оторвал его от марксизма и революционного прошлого, какого не было у Степуна. Этот упрек также не представляется обоснованным. Интерес к марксизму и революционно-пропагандистской работе был временным этапом, не определяющим федотовского мировоззрения и творческого вклада. Увлечение левыми общественно-политическими течениями было характерным явлением эпохи. Можно назвать, в частности, Бердяева, для которого марксизм был временным, поисковым этапом развития.
Значительную роль в распространении творческого наследия Федотова сыграли публикации издательства им. Чехова в Нью-Йорке и YMCA-Press в Париже.
В советской литературе Федотов как религиозный мыслитель был забыт. О нем не упоминали даже в историографической литературе по медиевистике при характеристике научной школы И. М. Гревса. В 90-е гг. ХХ в. возвращение в Россию культурного наследия эмиграции пробудило интерес к личности и творчеству Федотова. Появились публикации его работ, аналитические статьи, разделы о нем в монографических исследованиях. В. Ф. Бойков, В. В. Сербиненко, О. Д. Волкогонова, С. С. Бычков (составитель 12-томного собрания сочинений Федотова) внесли свой вклад в изучение творчества этого незаурядного мыслителя, автора ярких и талантливых работ о России, ее прошлом, настоящем и будущем.
Историю России Федотов рассматривал сквозь призму культуры. Мысль о спасительной роли культуры была характерна для многих мыслителей конца XIX – начала ХХ вв. Об этом писали Н. А. Бердяев, П. Б. Струве, А. В. Карташев и др. Глубокий смысл в спасительной роли культуры признавал и В. А. Маклаков: «Пропадали государства, – писал он, – но сохранялась культура и государственность возрождалась».
Федотов исследовал духовную жизнь русского народа, разные проявления народного духа. Он осознавал и различия историческо-культурного развития России и Европы, т. е. «различие исторического дня», которое он видел в проявлениях капитализма, социализма, национализма и космополитизма. Эти различия, по мнению Федотова, ярко проявлялись и в современной ему действительности.
«Россия поднята на коммунистическую дыбу», во имя коммунизма истребляют миллионы, отменяется христианство и культура, воцаряется всеобщая нищета. Европа тоже больна, но совсем не коммунизмом. Имя ее болезни: капитализм – в плане экономическом, национализм – в плане политическом. Из этого проистекало и различие задач.
Разумеется, Федотова волновала прежде всего судьба России и ее будущее. Размышляя об этом, он приходил к выводу, что Россия – «единственная земля, быть может, кроме стран Азии, где национальная идея не исчерпала своего творческого, культурного содержания». В дальнейшем эта идея, считал Федотов, была искажена этнографическим подходом и отодвинута западничеством. И лишь в ХХ в. впервые был поставлен вопрос о древнерусском искусстве и русской религиозности. Но это духовное возрождение было прервано войной и революцией.
«Мы стоим опять, как сто лет тому назад, перед загадкой России, властно требующей своего разрешения… Теперь, когда тема России стала актуально (а не потенциально лишь) вселенской, на русскую интеллигенцию ложится сугубый долг изучения и осмысления судьбы России». В этом Федотов видел и свой долг: «Неустанно, черта за чертой восстанавливать сложный лик России из множества противоречивых ее отражений. И доказывать, что эта работа воссоздания распавшегося образа России есть единственное, чего Россия ждет от своих изгнанных детей».
Обращение Федотова к историко-культурному развитию России было не случайным. Оно давало ему почву для осмысления прошлого, настоящего и будущего. В историческом развитии России Федотов видел три периода, определяемых культурой Киева, Москвы и Петербурга. Привычная в русской общественной мысли дилемма Россия – Запад нашла в этом подходе Федотова свое особое воплощение.
Киевская Русь, по мысли Федотова, являлась «эпохой высшего культурного расцвета Древней Руси», поскольку была связана с Византией и имела восточно-греческие корни. Киевскую культуру Федотов рассматривал как христианскую прививку «на грубом славянском дичке», как аристократическую культуру, которая не питалась народным творчеством и «излучалась в массы из княжеских теремов и монастырей» и рост ее протекал медленно, но «органично» и «непрерывно».
В Киевской Руси Федотов не усматривал явного противопоставления Руси Западу, но признавал, что именно в Киеве было «заложено зерно будущего раскола в русской культуре», связывая это с переводом на славянский язык Библии. И хотя Библия способствовала принятию христианства на Руси, но ценой отрыва от классической научной, философской, литературной традиции, потери влияния Гомера и Платона.
Московское царство вызывало у Федотова критическое отношение. Он объяснял это овосточиванием Руси после татаро-монгольского ига. Федотов видел в Москве «азиатскую душу», а ее культуру называл «узкой» и «провинциальной». «Московское самодержавие, – писал он, – при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения»: московский государь был «хозяином земли русской» и одновременно преемником ханов-завоевателей и императоров византийских. Деспотизм и закабаление народа при создании централизованного государства сочеталось вместе с тем с развитием культуры: «Пятнадцатый век – золотой век русского искусства и русской святости». Федотов отмечал также огромный вклад в русскую культуру купечества, предприимчивость которого создала почву для создания Императорской России.
Петровская эпоха, полагал Федотов, положила начало противоречиям русской жизни, приведшим в конечном счете к революции. Петр I расколол Россию «на два общества, два народа, переставших понимать друг друга… Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой – национальной». Крестьянство осталось верным христианству и национальной культуре, а над ним возвышался класс господ, получивших над ним право жизни и смерти и презиравших его веру, быт, одежду и язык. Россия со времен Петра I перестала быть понятной русскому народу, а его культура утратила свое единство. «Две разные культуры сожительствовали в России XVIII века. Одна представляла варварский пережиток Византии, другая – ученическое усвоение европеизма». В то же время, отмечает Федотов, XVIII век, несмотря на тяжесть европеизации России, обогатил мир величайшими достижениями русской культуры. Европейский гуманизм повлиял на такие явления русской культуры, как Пушкин, Толстой, Достоевский. «Ясно и то, – писал Федотов, – что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой, как в Хомякове и в новой русской богословской школе впервые, пройдя искус немецкой философии и католической теологии, осознает себя дух русского православия».
Сосредоточенность Федотова на духовном мире, национальном самосознании, естественно, определялась его особым вниманием к религиозному миросозерцанию русского народа. Он изучал духовные стихи – эпические песни на религиозные темы, жизнь русских праведников и мучеников, писал о святости Бориса и Глеба, которые заложили в народное сознание идею непротивления злу, ставшую, по мнению Федотова, национальным русским подвигом.
«Изучение русской святости в ее истории и ее религиозной феноменологии, – считал Федотов, – является сейчас одной из насущных задач нашего христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России; в них мы ищем откровения нашего собственного духовного призвания и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями». Русские святые, по Федотову, создали архетип духовной жизни с его религиозно-нравственными устоями, которые определили жизнеспособность Древней Руси. И в дальнейшем с православием и святостью были связаны жизнестойкость Руси во время монгольского нашествия, духовный подъем XIV в. Идеал духовной жизни Древней Руси, считал Федотов, обусловил и характер русской культуры, для которой свойственно опережение духовных сторон жизни в сравнении с социально-экономическими.
Обращение Федотова к человеку, признаваемому им «первой предпосылкой культуры», особенно к русскому человеку, его характеру, особенностям ментальности, трансформации в экстремальных исторических условиях было закономерным. Эта тема была актуальна, ей посвящали страницы своих трудов Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и другие эмигрантские мыслители, стремясь понять природу русской души и тем самым определить ее возможные проявления в будущем.
«Мы жадно вглядываемся в черты нового человека, созданного революцией, потому что именно он будет творцом русской культуры, – писал Федотов. – Вглядываемся – и не узнаем его. Первое впечатление – необычайная резкость произошедшей перемены. Кажется, что перед нами совершенно новая нация».
И Федотов обращается к истории, к традициям, заложенным в человеке прошлого. Он определяет два типа русскости: московский человек и интеллигент. Москвич – устойчивый и выносливый, равнодушный к ближнему, «сплав великоруса с кочевником-степняком, отлитым в форму иосифлянского православия», он примитивен, его православие – бытовое исповедничество, его мораль имеет антихристианские черты.
Москва, по Федотову, определила путь от свободы к рабству, к угасанию культуры, святости, огрубению быта. «Весь процесс исторического развития на Руси, – писал Федотов, – стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство». Свобода в Москве была заменена волей. «Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля – всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник – это идеал московской воли…» Подобная оценка московского человека сближает его с большевиком. «Советский человек, – пишет Федотов, – не марксист, а москвич», он утратил качества, присущие изначально русскому человеку: доброту, способность жалеть людей. «Поколение, воспитанное революцией, с энергией и даже яростью борется за жизнь, вгрызается зубами не только в гранит науки, но и в горло своего конкурента-товарища. Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его место».
Второй тип русскости – это интеллигент, «вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом… Беззаветно преданный народу, искусству, идеям… Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса… эсхатологический тип христианства… Для него творчество важнее творения, искание важнее истины, героическая смерть важнее трудовой жизни». В своих многочисленных статьях, особенно в работах «Трагедия интеллигенции» и «Создание элиты», Федотов раскрыл эволюцию русской интеллигенции и ее угнетение или гибель в советское время.
И тем не менее он полагал (постоянная федотовская мысль о преемственности развития), что общий процесс развития культуры не зависит от политики. Культура, творимая и хранимая ранее интеллигенцией, спускается в глубину масс и вызывает переворот в их сознании; она перестает быть замкнутой или двухэтажной и становится единой, приобретя демократический характер. При этом глубоко понижается ее уровень. В России развивается не культура, которая всегда основана на примате философско-эстетических принципов, а цивилизация, построенная на базе научно-технических элементов. Соответственно с этим формируется и тип человека. У него нет культурной среды, воздуха культуры, профессиональная школа может сделать его специалистом, но культурным человеком он не станет, если его мастерская не преобразуется в храм.
Современная исследовательница О. Д. Волкогонова справедливо признает, что характеристика русского национального типа, созданная Федотовым, является его большой удачей.
Федотов отвергал широко распространенное мнение современников о том, что революция – «суд Божий» или непременное условие дальнейшего развития. Для него революция – величайшее потрясение, «жесткое и бездушное время», резкий перелом, при котором зачеркивается целая историческая эпоха с ее опытом, традицией и культурой. При этом Федотов не отрицал нравственного содержания лозунгов Великой французской революции, полагая, что любовь к свободе, равенству, энтузиазм явились действием положительных сил, что привело к формированию национального сознания и гражданственности. Но одновременно в революции проявились и «сатанинские силы» сословной, классовой и антихристианской ненависти, которые ведут тяжбу с установившимися традициями. Эта борьба обедняет культуру победившей стороны.
«Русская революция, – писал он, – стоит третьей в ряду – после Англии и Франции». Она отличается жестокостью классовой борьбы, которая связана с сознательным истреблением старого культурного класса и заменой его новой, поднявшейся из низов интеллигенции, с чрезвычайно быстрым приобщением масс к цивилизации в ее интернациональных и поверхностных слоях, в рационализации русского сознания, в стремлении тоталитарного государства создать новый тип догматического человека.
Федотов отчетливо проводит мысль о том, что революция всегда в конечном счете приводит к террору, а в области культуры – к необратимым потерям.
Неприятие советского строя, сталинского террора и всей деспотической системы управления, развала старой культуры, столь почитаемой Федотовым, сопровождалось сохранением веры в возрождение России. При этом Федотов полагал, что истинная почва для возрождения страны содержится в ней самой, в тех людях, которые эволюционируют в своем мировосприятии и могут выступить носителями новой демократической культуры. «Будущее России сейчас уже связано не с тем поколением, которое было застигнуто войной 1914 года, а тем, которое воспитано Октябрьской революцией… Историк знает, – писал он, – что, как ни резки бывают исторические разрывы революционных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности…» – и далее: «Октябрьское поколение не помнящих родства было бы бессильно что-либо создать, если бы в нем… не жил гений народа».
Диалектический подход к историко-культурному процессу в России, признание противоречивости и одновременно стабильности поступательного развития базировалось у Федотова на его историософских основах. Для Федотова существовало «две философии истории. Для одной из них история всегда поступательное движение, развитие или прогресс или раскрытие абсолютного духа. Консервативный или революционный, но это всегда дифирамб действительности. Все злое и темное в историческом процессе принимается как жертва или цена. И эта цена никогда не кажется слишком дорогой, ибо покупаемое благо мыслится бесценным и бесконечным – в необходимой перспективе будущего». Эта точка зрения, по словам Федотова, была преисполнена «неисправимым оптимизмом» – «все к лучшему в этом лучшем из миров». Пала Римская империя и цивилизация – чудесно! Разлагается культура средневековья, далее Ренессанс создает более высокие формы жизнедеятельности; монгольское иго помогло Руси создать свою государственность, опричнина демократизировала правящий класс, смутное время консолидировало Россию. Порочность этой позиции Федотов усматривал в том, что ее сторонники акцентировали внимание лишь на позитивных моментах и не озадачивались «бесспорным фактом попятных движений в истории, ни даже гибелью государства, народов, культур». Подобный взгляд на ход исторического процесса Федотов считал неприемлемым.
«Но есть другой взгляд на историю как на вечную борьбу двух начал». Ничто не предопределено в истории силой естественных законов или движением божественной воли, «ибо история есть мир человеческий – не природный и не божественный, – и в нем царит свобода. Как ни велико в истории значение косных, природных, материальных сил, но воля вдохновленного Богом или соблазненного Люцифером человека определяет сложение и распад природных сил». «…Не может в мире пройти бесследно, – рассуждал Федотов, – ни слабое проявление добра, ни зла. Они… включаются в разные одновременно действующие процессы созидания и разрушения». И в видимом единстве жизни, «всегда можно различить двоякую детерминированность: к вечности и к смерти».
Человек с его сложным и противоречивым миром является «предпосылкой» хода истории и культуры. Для Федотова свободный человек, связанный с Богом и одновременно искушаемый Злом, – главный и единственный «двигатель» исторического процесса, создатель «исторической мистерии». Детерминистический подход к историческому процессу, определяемый историческими законами или «Волей Провидения» Федотов не принимал. Свобода нравственного выбора человеческой личности являлась для него определяющим фактором исторического развития. «Не разделяя доктрины исторического детерминизма, – писал Федотов, – мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов».
Содержанием исторического процесса Федотов считал завоевания человека в разных областях жизни, сохраненных и развитых разными поколениями. «Лицо России не может открыться в одном поколении, современном нам. Оно в живой связи всех отживших родов, как музыкальная мелодия в чередовании умирающих звуков. Падение, оскудение одной эпохи – пусть нашей эпохи – только гримаса, на мгновение исказившая прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым в живую цепь».
Идея органической связи поколений и сохранения традиций является для Федотова стержнем концепции российской истории и залогом ее возрождения в постбольшевистский период. При этом традиции рассматривались, проницательно заметил Карпович, не как неприкосновенные реликты, а как духовное оружие, служившее «в борьбе с новым злом и во имя новых целей».
Незаурядность ученого проявлялась в его методе анализа исторического материала. Он широко и масштабно мыслил. Причины изучаемых им исторических явлений он искал не в отдельных фактах, а стремился изучить исторический процесс как целое, в котором существовали противоречивые тенденции и выявлялись ведущие линии развития.
Обращение Федотова к ключевым проблемам российской истории разных эпох дореволюционного и советского времени диктовалось стремлением понять их сущность и осознать перспективы развития. Современность он стремился постичь, изучая события прошлого, будущее становилось для него понятным при осмыслении современности. Вера в Россию определялась мировосприятием Федотова, его нравственным мировоззрением и научными позициями. Любовь к России, убежденность в ее историко-культурном величии, осознание необходимости внести свою лепту в ее возрождение, а также созданная научная историко-философская концепция служили базой обоснованных суждений Федотова о России. Его многочисленные статьи 20–30-х гг. содержат постоянный посыл: у России есть будущее и она возродится в постбольшевистское время.
Научный подход к пониманию исторического процесса обеспечил Федотову содержательность и во многом обоснованность созданной им программы Возрождения России. Он неизменно верил в будущее новой постбольшевистской России. Многие положения этой программы сохраняют свое значение и в настоящее время. «В нас должно совершиться рождение будущей великой России… – писал Федотов. – …мы призываем с напряженным восторгом вглядываться в лицо России и запечатлеть ее черты. Поведать всем забывшим о ее славе. Влить бодрость в малодушных, память в непомнящих, свет в темных… Мы знаем, мы помним. Она была Великая Россия. И она будет!»
Возрождение России Федотов связывал с христианством, с его духовными и культурными ценностями. Христианство он считал религией всеобъемлющего совершенства, не зависящей в своей этике ни от какого общественного строя; «идеал христианства высок и недосягаем». Христианство содержит нравственные критерии: любовь к человеку, справедливость, борьбу со злом, братские начала жизни и обеспечивает своим духовным богатством личность. «Святость, недостижимая в общественной жизни, – полагал Федотов, – возможна лишь в личном совершенстве».
«В христианстве – и только в нем – утверждается одновременно абсолютная ценность личности и абсолютная ценность соборного соединения личностей… В недрах христианства рождается новое социальное сознание». Только человек как творец истории может привнести в нее христианские ценности. Христианство дает нравственные критерии не только личной, но и общественной жизни. Лишь на почве христианства разрешимы, по Федотову, два недуга, которыми больно человечество: ненависть классов и ненависть наций. Христианство также может понять и разрешить противоречия личности и государства, обеспечить равновесие между личностью и обществом.
По мысли Федотова, поиски общественного идеала – дело человека, его совести и его свободы. Ценность социальных форм зависит прежде всего от того, кто наполняет их нравственным содержанием и духом социального идеализма. Идеал братства несовместим с существованием резких социальных противоречий богатства и бедности. Социальный вопрос является практическим выводом из постулата христианского братства.
Общественным устройством, в котором могут воплотиться христианские нравственные ценности, является социализм, который, по словам Федотова, в своем рождении вырастает «из тех же слоев сердца, что «Бедные люди» Достоевского или «Отверженные» Гюго», и в котором живет «вечная правда, всего смысла которой он еще сам не постигает. Человечество должно воплотить в жизнь свое умопостигаемое братство».
Однако новый, современный Федотову социализм он оценивает как упадочную линию развития: «Социализм [в широком значении. – М. В.] утратил весь привкус утопичности и максимализма, который превращал его в “музыку будущего”». Он свободен от романтики и морализма, его отправная точка – не защита угнетенных, а сохранение общества в целом. Он проникнут пафосом не справедливости, а организации. Его идеал становится родственным техническому идеалу и становится «как бы социальной транскрипцией техники: социальным конструктивизмом».
Современный западный социализм Федотов считает «серьезно больным». «Одна из величайших сил, творящих историю наших дней, социализм, – пишет он, – переживает время тяжкого кризиса, из которого он может выйти возрожденным или погибшим, задавив под своими обломками европейскую культуру».
В Советской России, по Федотову, не существовало социализма органического происхождения, поскольку не было и капитализма. Социализм осуществлялся «жесткими руками», что привело к тирании, к подавлению личности и всех общественных классов. Материализм, этика классового эгоизма и ненависти, растворение личности в партийном и классовом коллективе Федотов считал несовместимым с христианством. Российский социализм он, таким образом, признавал забвением социальных основ христианства и враждебным ему.
Будущее российского развития предопределено для Федотова прежде всего его историческим прошлым и той почвой, которая была создана Советской Россией; Россия подвержена «общему печальному закону» европейской истории. Федотов являлся сторонником западноевропейского развития России. В духе государственной школы, школы Ключевского он не исключал и влияния своеобразия России на ее исторический путь. Капитализм Федотов считал для России закономерно обусловленным. Однако, в силу отсталости России «молодой русский капитализм» не имел навыков высокой технической школы, профессиональной этики, корпоративного самосознания.
Советское время, предшествующее новой России, Федотов называл «подобным петровскому», «бесконечно» углубившим экономический ров между Россией и Западом. Возможность засыпать этот ров он связывал с капиталистическим развитием и с этизацией капиталистического производства. Федотов отмечал особую «чуткость» большевиков в их обостренном внимании к проблемам техники и индустрии, но и называл их разрушителями русской промышленности, «окарикатуривших ее до сталинских пятилеток».
Новая постбольшевистская Россия, по его представлению, должна быть экономически независимым государством, хозяйственной автаркией, что возможно лишь при развитии капиталистического производства. В ответ на возражение современников, что на Западе капитализм исчерпал себя и его развитие связано с идеей социализма, Федотов отвечал, что многие идеи, в том числе и идея парламентаризма, «поизносились» и к ним следует относиться исторически: Запад и Россия по-разному и на разном уровне воспринимают и трансформируют эти идеи. У России свой путь, она должна опираться на вековой опыт Европы с поправками на социализм. «Русское творчество» состоит в том, «чтобы брать не последнее слово уже дряхлеющей идеи, а ее глубокое историческое содержание: найти для нее формы, соответствующие духу времени».
Осмысливая опыт европейского и российского развития и осознавая многосложность общественной атмосферы и в Европе, и в России, Федотов считал необходимым активизировать эмигрантскую творческую мысль для понимания возможностей эмиграции и сплочения сил в противоборстве с большевизмом.
В эмигрантской литературе, начиная с 20-х гг., активно обсуждался вопрос о форме будущего политического правления России. Федотов считал, что современное поколение в России примет любую власть, которая обеспечит ей минимум гражданской свободы – бытовой, хозяйственной и культурной. Он рассматривал разные формы власти и их применимость в постбольшевистской России.
Преимущества монархической власти Федотов видел в традиционной вере народа в ответственность единодержавного правления, а также в возможной роли хранителя культурных ценностей. Но фактом русской жизни он признавал исчезновение монархической идеи, ее изжитость в общественном сознании. «Только древняя монархия, сильная нерастраченным авторитетом, – писал он, – может вести политику социальных реформ, может опираться на демократию. Последыши обречены жить и умереть со своим классом». Установление в России монархии Федотов считал утопией, но, если бы оно было возможным, то осуществилось бы в форме реставрации династии Романовых, представляя для страны большую опасность. И, тем не менее: «Если бы чудом России свалилась с неба монархия… она, вероятно, не встретила бы сопротивления» и объединила бы людей различных политических ориентаций.
Наиболее приемлемой политической формой будущего государственного устройства России Федотов признавал республику. Он объяснял это тем, что республика не требует ломки в народном сознании. «Дух трезвости, расчетливости, хозяйственности» и эгалитарности составляет моральную атмосферу советской республики и может быть живучим в новой России. Однако Федотов отмечал, что эта республика лишена романтического пафоса и нуждается в воспитании на «героических республиканских идеалах Греции и Рима», на православном народоправстве Новгорода. И только при этом соединении республика может стать «положительным идеалом», обогащенным элементами национальной религиозной культуры.
В размышлениях о будущей России Федотов признавал и возможность «неизбежности» диктатуры. Установление диктатуры он объяснял пассивностью масс и отсутствием правового сознания. «Если власть не может опираться в своей самозащите на правовое чувство нации, она вынуждена опираться на силу. Иначе она будет сметена…». Важно заметить, что установление диктатуры Федотов считал возможным при разных формах государственной власти, в том числе и при демократии. В истории России Федотов видел разное содержание диктаторской власти. Царская Россия имела «удобную почву» для деспотизма, но этому препятствовала влиятельная прослойка интеллигенции, одушевленная пафосом свободы, а также наличие самоуправления и общественного мнения. В Советской же России произошло «вытравление чувства свободы». «Мы вернулись – политически, – свидетельствовал Федотов, – в обстановку XVIII века». Смута и аморфность ставили на повестку дня необходимость установления диктатуры.
Целесообразность установления диктатуры Федотов обосновывал также необходимостью сохранять единство России. «Вот почему, – писал он, – Россия не может в ближайшие годы позволить себе роскошь свободной политической борьбы, которая на ее еще горячей почве всегда рискует превратиться в междоусобие». Он признавал три вида диктатуры: единоличную, партийную и монархическую. Под партийной диктатурой Федотов имел в виду диктатуру коммунистической партии, которая при определенных условиях может продлиться и в постбольшевистское время. Здесь же Федотов замечал, что партия уже «износилась как самостоятельная политическая форма», превратилась в единоличную диктатуру и функционирует как политический аппарат. Советскую власть и фашистский режим он объединял понятием идеологической диктатуры, их общей чертой считал удушение свободы и творчества. Однако, фашизм как «самый вредный вариант», по его мнению, был неприемлем для России, в то время как советский строй мог составить определенную основу для новой постбольшевистской России.
Федотов много размышлял о демократии, о возможности демократического устройства постбольшевистской России. Демократия для Федотова означала власть народа, а источником власти являлась народная воля. Понятие демократии он наделял двумя идеями, одна из которых относится к символу, вторая – к социальной действительности. Символ, мистика демократии, поясняет Федотов, – это имя народа. «В демократии все вершится именем народа, как в Англии именем короля». Вторая идея связана с политической реализацией «народной воли». Народ при демократии несет не только государственное служение, но и ответственность. Кроме того, демократия является, как подчеркивал Федотов, единственной формой правового государства.
Самоуправление народа, по Федотову, не может быть ограничено только государственным правлением. Важной принадлежностью демократии является и создание местного муниципального и профессионального хозяйственного самоуправления. Без этой основы, подчеркивает Федотов, демократия не защищена от перерождения в цезаризм.
Основополагающими ценностями демократии Федотов признавал неотъемлемость прав и свобод личности. «В порядке ценностей свобода личности для христианского политика, – писал он, – стоит бесспорно на первом месте: она превыше всех политических форм». Это свобода личности от общества, от государства; одновременно государство обязано защищать личность от произвола, оскорбления и насилия. Федотов перечисляет длинный список свобод, которые формируют демократию: свобода совести, мысли, слова, собраний и т. д. Но самой главной он признает свободу убеждений – религиозных, моральных, политических, научных – и свободу их публичного выражения.
Социальная свобода, полагает Федотов, утверждается на двух истинах христианства. Первая из них – абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для народа, ни для государства и даже церкви, и вторая – свобода выбора пути между истиной и ложью, добром и злом. Что касается политических свобод демократии, то они являются производными от основной свободы – свободы духа.
Следует отметить, что Федотов проводил различие между социальным и политическим пониманием демократии. Социальная демократия – строй, действующий в интересах народных масс и максимально обеспечивающий права граждан. Но этот строй представлялся ему мало реальным. Современные западноевропейские парламентские демократии, по признанию современников, в том числе и Федотова, находились в кризисном состоянии. Их слабость Федотов видел прежде всего в том, что они не способны решать все возрастающие социальные проблемы, и связывал это с утратой парламентского большинства, обязанного обеспечить стабильность и работоспособность власти.
Резкой критике Федотов подвергал политические партии, которые погрязли в интригах и демагогии, современных политиков, переставших быть подлинными вождями народа, парламенты, которые все более заполняют «ловкие ораторы» и «сомнительные дельцы». Для управления государством и решения социальных задач, – считал он, – нужны иные качества правителей. «Люди культуры, просто порядочные люди все более уходят из политической жизни… Политика стала делом презренным, парламентарии предметом глумления». Поэтому народ не узнает себя в своих представителях и не станет защищать своих избранников, но без этого парламентский режим невозможен, ибо он основан на доверии и воле народа.
Буржуазный рационализм, как полагал Федотов, исказил лик демократии. Эти искажения проявились прежде всего в деятельности политических партий, подчиняющих своим интересам «индивидуальные воли», в пропорциональной системе выборов, разбивающей единство национальностей в угоду отдельным кликам, и, наконец, в несостоятельности исполнительной власти, у которой нет времени и свободы действий для продуманных и ответственных решений.
Диктаторские режимы с абсолютистским характером идеологий, к которым Федотов относил фашистскую власть, а также советский политический строй, он считал «могильщиками демократии». Однако предусматривал разный исход их исторического пути: либо установление цезаризма и абсолютизма, либо диктат власти партии – «отбор» тех, кто становится новой кастой. Не исключал он и возможность демократической эволюции.
По мысли Федотова, формой новой демократии призвана стать корпоративная или синдикальная демократия, поскольку современный человек из всех социальных связей развивает преимущественно профессионально-корпоративные связи. «В идее, корпорация является представительством не интересов, но призваний, различных форм социального служения». Корпоративную систему как форму организации и самоуправления трудящихся масс он рассматривал как переходную ступень к новой социальной демократии. В Советской России исходным моментом для развития новой демократии является советский строй, который в своей избирательной системе сочетает профессиональный и территориальный подходы. Противники корпоративной демократии утверждали, что ее сторонники теряют идеи государственного единства, на что Федотов возражал: в государстве корпораций идея целого представлена центральной властью и поэтому сильная и независимая власть, особенно в период ее становления, необходима. От народа власть получает лишь общие указания и должна реализовываться как искусство – талантливый вождь должен быть подобен художнику.
Главными условиями создания новой демократии Федотов считал экономические преобразования, «внутренние скрепы», дающие устойчивость и жизнеспособность общественному строю. Важное значение он придавал также духовной революции. «Дух должен проснуться в человеке». Все социальные отношения и преобразования должны быть освещены христианской религией.
Органическая социальная демократия, по Федотову, должна базироваться на новых мировоззренческих основах. «Ересям» парламентской демократии следует противопоставить иные представления, принципы и правила подхода к вопросам, связанным с демократической властью и ее выборами. Прежде всего, полагал он, неоспоримым должно быть установление, что участие во власти есть не право личности, а ее долг: «Власть не пирог, который делится между сотрапезниками, не акционерная компания для общей прибыли. Власть общее дело…» Равенство избирательных голосов не является преимуществом системы выборов. Всеобщность голосования – это школа общей жертвенности и ответственности. Законные интересы личности обеспечиваются ее правами, а не властью.
Федотов считал также, что представительство народа, сформированное путем «отбора лучших, мудрых и справедливых», не следует рассматривать только как выразителей народной воли. Народный избранник должен быть способным к избавлению от привычных идей, предрассудков и руководствоваться интересами дела и совестью. При этом его главным предназначением должно быть творческое начало, избавление от стереотипов правления. Но этому идеалу, замечает он, в меньшей степени отвечает парламент и в большей даже – совет средневекового или абсолютного монарха: боярская дума Древней Руси или Витенагемот англосаксонских королей.
Что касается характера выборов, то они, по мнению Федотова, должны быть построены не на выборе программ, а на оценке личных качеств кандидатов. Однако, выборы на основе личной годности, подчеркивает Федотов, осуществимы лишь в узких профессиональных группах. Избранный не может в период выборов принадлежать к какой-либо партии, он обязан на это время выйти из нее. Федотов напоминал также, что власть есть водительство народа, а не служба приказчика, выполняющего хозяйственные указания. Она должна быть сильной и независимой.
Выполнение всех этих принципов, полагал Федотов, заложит фундамент для становления новой демократии, которая будет создаваться не прожектерством, а политическим опытом.
В программе построения будущей России существенное место занимали аграрные и индустриальные преобразования. «Программной предпосылкой» решения земельного вопроса постбольшевистской России Федотов считал невозможность реставрации помещичьей собственности и необходимости прочного закрепления земли за крестьянами. Исключение могли составлять лишь бывшие владельцы усадеб и мелких владений. Препятствие этому он видел не в экономических, а в психологических причинах, в неприятии крестьянами какого-либо восстановления помещичьей собственности, поскольку «крестьяне боятся и тени помещика». Опыт же «насильственного коммунизма», считал Федотов, необычайно поднимет идеал личного, собственнического хозяйства.
Важно отметить, что Федотов придавал большое значение психологическому восприятию окружающего мира. В подходе к решению всякого рода преобразований он призывал учитывать настроения, психологию народа, трансформацию народных представлений. Он считал необходимым с осторожностью относиться к советскому наследию в аграрной сфере, осуждал ужасы советской коллективизации и разорение деревни и предвидел возможность нового крестьянского передела. Этот передел должен осуществляться самими крестьянами без участия государства. «Лучше санкционировать торопливую, не всегда справедливую крестьянскую дележку, чем спускаться во львиный ров растревоженной, обозленной деревни. Урок 1917 года всем памятен…».
Вопрос о национализации земли Федотов связывал с «правовым титулом государственного вмешательства». Участие государства в процессе национализации он признавал неизбежным. Государству он отводил регулирующую роль, ограничивающую максимум земельного владения и предотвращающую возможность дифференциации в деревне. Что касается формы собственности в будущем, частной или коллективной, то решение этого вопроса определит лишь время. Государство при решении аграрных проблем должно учитывать пестроту местных условий и изменчивость крестьянских настроений. Общинное и подворное хозяйство могут и должны сосуществовать друг с другом. «Русская аграрная проблема, – утверждал Федотов, – становится проблемой агрономической». Большевики, по его мнению, «четко отразили исторический момент обостренного внимания к проблемам механизации сельского хозяйства и всему комплексу мер, необходимых для ведения рационального хозяйства»: орошения, удобрения, агрономии и т. д. «Приходиться смиренно сознаться, – писал он, – что Микула Селянинович никогда не умел хозяйничать, и русское земледелие было непроизводительной растратой человеческой рабочей силы». Революция, по представлениям Федотова, уничтожила психологические препятствия к рациональному хозяйству (традиционализм быта, этика равенства, социальная зависть) и освободила скованные хозяйственные силы народа.
На государство, полагал Федотов, возлагается обязанность обучить крестьян обрабатывать землю, овладеть новой техникой, машинами. Технический переворот в земледелии, предвидел Федотов, освободит большое число людей, занятых на земле. Аграрное перенаселение станет грозной проблемой России, а ее решение возможно лишь в общей системе народного хозяйства под эгидой государства.
Перестройку в областях промышленности Федотов признавал более сложной, чем в сельском хозяйстве. Прежде всего во главу угла он считал необходимым выдвинуть проблему производства, а не распределения; самым существенным вопросом признавал вопрос о собственности промышленности, о роли государства в ходе индустриальных преобразований. «Если дорожить экономической мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную жизнь страны, то нельзя, увлекаясь духом антикоммунистической реакции, – писал Федотов, – разделывать все сделанное, разбазарить, раздарить или продать с торгов все государственное достояние России. Здесь национальный интерес ограничивает чисто экономическую логику».
По мнению Федотова, «как общий принцип, государство отдает лишь то, с чем оно само не в силах справиться». Но государство должно сохранить в своих руках «значительные возможности хозяйственного регулирования». Это «завоевание революции», считает Федотов, сохранится в постбольшевистской России «не по доктринерски-социалистическим мотивам», а по слабости русского промышленного класса.
Одновременно с этим он признавал необходимым установление рыночных отношений и денационализацию промышленности. Но проведение денационализации не должно означать ее реституции. Реституция одной категории собственности (промышленности) при невозможности реституции собственности земельной (денежной или движимой), воспринималась бы, считал Федотов, как очередная несправедливость. Кроме того, замечал он, вопрос о реституции не может быть поставлен и по отношению к индустриальному строительству, создавшему в годы советских пятилеток значительные технические ценности. Как и при решении аграрных проблем, Федотов подчеркивал необходимость пристального внимания к особенностям русского национального характера (в массе своей одобряющего национализацию промышленности) и призывал к осторожности в решении индустриальных проблем.
Денационализация, полагал Федотов, не может вылиться в продажу с публичного торга, поскольку промышленное или торговое предприятие – личное, творческое дело. Пути сбыта продукции, кредитные возможности часто являются выражением чьего-либо личного, творческого действия, и Россия помнит и гордится многими талантливыми родами, лишенными собственных капиталов, но без которых далеко не всегда возможно восстановление разрушенного.
Федотов предвидел и допускал возможность иностранного вторжения в процесс промышленных преобразований, предостерегая, однако, что денационализация может сопровождаться захватом отдельных отраслей промышленности иностранцами. И только умелая национальная охранительная политика, «воля отстоять национальное достояние» способны предотвратить угрозу зависимости России от иностранного капитала или превращения ее в колониальную страну.
Государственное вмешательство Федотов признавал обязательным в сфере отношений между трудом и капиталом, отношений «весьма острых и чувствительных» в послереволюционную эпоху. Рабочий, признавал Федотов, «не скоро позабудет хмель своего призрачного царствования»; «избалованное классовое самосознание» будет чрезвычайно чутко «ко всякому моральному и политическому унижению». «Отменив пролетарское дворянство», государство не должно допускать нового крепостничества на фабрике. Федотов считал желательным сохранение в постбольшевистском периоде большевистского кодекса законов о труде. «Освобожденная Россия должна показать своему мятежному сыну, что для нее нет пасынков».
Обоснованной представляется мысль Федотова о том, что от политики власти первых лет постбольшевистской России многое зависит: удастся ли направить рабочее движение, профессиональную и политическую деятельность по национальному руслу, или русский рабочий вновь вернется в лоно Коммунистического интернационала.
На государство и особенно на интеллигенцию возлагается большая разъяснительная работа для того, чтобы «приобщить красных варваров к русской национальной культуре» и чтобы они не чувствовали себя безродными и понимали, что они «вступают в наследство великих отцов». Но для этого должно быть обеспечено их материальное положение и досуг для духовного развития. Знаменательно высказанное в этом контексте прозрение Федотова о том, что, если в 20-е годы «красная Москва» оказывает огромное воздействие на сознание европейского пролетариата, то в будущем это соотношение изменится – европейское влияние на постбольшевистскую Россию окажется бóльшим.
Экономическое и культурное возрождение России Федотов не мыслил без воссоздания и развития класса предпринимателей, для которых проблема производства должна доминировать над проблемой распределения. Этого требует настоятельная потребность засыпать экономический ров между Россией и Западом, образовавшийся в XIX в. и углубившийся в советское время. Россия должна превратиться в индустриальную державу, иначе она может стать колониальной страной.
Почва для образования была подготовлена имеющимся в России «пафосом техники», огромным интересом к хозяйственным и техническим проблемам, что является залогом хозяйственного возрождения. Технический романтизм новой интеллигенции в соединении со стихийной энергией деревни создает, по Федотову, атмосферу для возникновения нового типа национального предпринимателя. Но для этого необходима большая работа в области экономического просвещения, переоценка морального значения хозяйства, этизация капиталистического предпринимательства и постижение опыта международной экономики.
Определенные предпосылки для возможности индустриализации России он усматривал в политике большевиков, в их «чутком», обостренном внимании к проблемам техники и индустрии. «Разрушители русской промышленности, – писал он, – они мечтают продолжать дело Витте, окарикатурив его до сталинской пятилетки». Осуществление индустриализации Федотов связывал не с пятилетками, а с пятидесятилетним сроком. «В таких границах времени индустриализация России перестает быть химерой». При этом важно отметить, что, говоря об индустриализации России, Федотов был далек от ее сравнения с западноевропейскими индустриальными странами. Он считал, что естественные условия и богатство страны предопределяют аграрный тип России. Но Россия может и должна перерабатывать свое сырье, обеспечивать снабжение армии и стать независимым хозяйственным миром.
«Экономическим несчастьем» России Федотов считал неразвитость организованного городского ремесла. Национальное русское ремесло – кустарное – было подсобным при крестьянском хозяйстве. В силу этого в России не было вековых навыков технической школы, профессиональной этики корпоративного самосознания, а «молодой русский капитализм» имеет эксплуататорский и спекулятивный характер.
Русский капитал, в отличие от западноевропейских стран, имеет глубокие торговые корни. Поэтому традицией российского развития, требующей возрождения, Федотов признавал торговлю. Он помнил о вечевых республиках Древней Руси, экономическая жизнь которых строилась на торговле, отмечал, что и большевистская деревня выделяла из своих рядов торговцев и предпринимательскую аристократию. Психологический тормоз для развития торговли на разных этапах развития России он видел в «дворянском презрении» к торговле, в «неразборчивости» русской интеллигенции, путающей понятия торговли и спекуляции, эксплуатации и предпринимательства.
Одной из важных составляющих программы возрождения России являлась национальная проблема. Федотов понимал особую значимость и сложность этой проблемы, несравнимой с решением хозяйственных вопросов. Возрождение России, вполне правомерно, представлялось ему во многом зависимым от того, «будет ли существовать Россия как империя, как государственный союз народов, или она вернется к исходному племенному единству в старомосковских границах Великороссии». Симптомы сепаратизма представлялись ему опасной болезнью, способной разрушить государство. Самым тревожным мистически значительным симптомом он считал забвение имени Россия, которая может стать географическим и этнографическим пространством.
Будущее национальное строительство должно быть основано на уже достигнутых и устоявшихся результатах. Со «справедливой гордостью» Федотов утверждал, что «…гегемония России почти для всех (впрочем, не западных) ее народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская». Структуру СССР поэтому Федотов признавал «черновым наброском будущей карты России». К стабильным признакам этой карты он относил прежде всего целостность России, подвергая, однако, сомнению большевистскую систему централизма и децентрализма.
Просчеты советской национальной политики он видел в отсутствии идеи «единства трех основных племен» – русских, малорусов и белорусов. Это единство, по идее Федотова, должно стать базой формирования нового русского национального сознания. Большое препятствие в создании возрожденного государства состояло, считал Федотов, в «омертвении великороссов», в потере ими «национальной активности», утрате осознания этнических и духовных приоритетов. Это состояние Федотов называл глубокой болезнью, в которой были повинны «три главнейшие силы, составлявшие русское общество» – народ, интеллигенция и власть.
Не без основания Федотов утверждал, что для русской интеллигенции западнического толка национальная идея часто соединялась с идеологией самодержавной власти. «Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциации насилия или официальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством».
Основным «пороком» народа Федотов считал постепенную утрату им национальной идеи, терпения и способности защищать Россию. Национальное сознание, которым, по мысли Федотова, в полной мере обладала Московская Русь, постепенно, начиная с петровских времен, «выветривалось». Народу стали недоступны историческая судьба страны, ее международная политика; крепостное рабство воздвигало стену между народом и государством.
«Падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской». Русский народ «распался», «распылился» на «зернышки деревенских мирков», к этому добавился и отлив материальных и духовных сил от великорусского центра на окраины империи.
Отдельные национальные районы России также представлялись Федотову не в полной мере готовыми к осуществлению намеченной программы. «Никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздирающих тело России», – писал он в 1929 г. Политика расчленения России, по словам Федотова, проводится националистами «под покровом интернационального коммунизма». Украина, Грузия рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам ислама. Сибиряки мечтают о Сибирской республике.
Национальный сепаратизм Украины и Кавказа являлся для Федотова исторически объяснимым явлением. Украина виделась ему «самой трудной» национальной территорией России. Сложности украинского самосознания он связывал с генетическими свойствами, с влиянием «польской самостийной гордыни», с антирусской ориентацией полонофильских или германофильских кругов украинской интеллигенции, которые ошибочно выражали историческую идею украинского народа. Федотов считал украинский народ южно-русским племенем и создателем русского государства. Новое национальное государство обязано чутко и внимательно относиться к малороссам, щадить их национальное самоутверждение и способствовать развитию русских традиций в мировосприятии Украины.
Федотов призывал создать сверхнациональное государство (империю), обеспечивающее мирное сотрудничество народов «под водительством великой нации». «Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что задача империи, то есть сверхнационального государства, разрешима, – писал Федотов. – … Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов не под гнетом, а под водительством великой нации». Для Федотова это означало «воскрешение» духовного облика всех народов России. Центром притяжения для народов была и остается русская культура, способствующая приобщению к мировой цивилизации. Объективными факторами для создания этого государства являлись: мощный экономический базис, наличие старых экономических связей, единый хозяйственный организм, действующий как в дореволюционной, так и в советской России, великая русская культура, оплодотворяющая другие культуры, традиция национальной политики, приемлемой для других народов, историческая роль суперарбитра в международных конфликтах.
Успешное решение национальной проблемы Федотов связывал с наличием благоприятных политических и моральных условий, с созданием гибких и твердых юридических форм, которые одновременно выражали бы единство и многоплановость национального построения России и обеспечили бы гарантии развития свободы каждому народу. При этом Федотов считал необходимым учитывать различие культурного уровня народов. Поэтому установление симметричной федерации (конфедерации) не перспективно и не создает благоприятных отношений между народами.
Коренным условием создания этой государственной модели, по мысли Федотова, является формирование нового национального сознания. «Наше национальное сознание, – писал он, – должно быть сложным в соответствии со сложной проблематикой новой России (примитив губителен!). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским… Для малороссов, не потерявших сознание своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское». Новое национальное сознание должно быть соединено с религиозным возрождением, существенно скрепляющим народы.
В конце 30-х – начале 40-х гг., особенно под влиянием начавшейся Второй мировой войны, утверждения нацистской Германии, Федотов был глубоко озабочен перспективой мироустройства. Федерация народов, по его убеждению, должна спасти мир и противостоять войнам, деспотизму и национализму. Федеративное устройство, по мнению Федотова, способствует скорейшему разрешению конфликтов. Это подтверждают примеры из истории и истории культуры: греко-римские городские общины объединяются в империю, феодальные княжества – в национальные государства; Рим интегрировал в одну культуру многообразие средиземноморских культур, несмотря на «антагонизмы и реки крови» на этом пути.
Федотов понимал, что государственное сознание многих стран «приковано к старым суверенитетам, зажатым в узкие национальные границы», хотя Европа уже создала систему федераций: Центрально-европейской, Балканской, Британской и др. В России он видел те же процессы. Россия «и на Западе, и на Востоке… вросла всеми своими членами глубоко в другие политические миры. Ее нельзя оторвать от мировых силовых систем, как нельзя разрубить сиамских близнецов». В политической и культурной областях в новых исторических условиях Россия не может быть самодовлеющим государством. «Как европейская федерация немыслима без России, так и культурная жизнь России немыслима без Европы». Опыт тысячелетней истории показывает, утверждал Федотов, что, хотя Россия и Запад имеют не совсем тождественные истоки, отражающие «особенность двух христианских миров», но и Византия, и Рим восходят к Греции. И этим он объясняет возможность общения и взаимного оплодотворения.
Петровская эпоха, расширяет и корректирует Федотов свои представления о ней, являлась не только изменой, но и «обретением собственной сущности в заимствованных формах культуры». Запад способствовал пробуждению и мужанию России, а также формированию свободы. Советское время прервало связи России и Европы вместе с истреблением культурного слоя, хранящего эти связи. «Думается… – писал Федотов, – что и после освобождения России от сталинизма ей не жить цветущей культурной жизнью, если она сохранит китайскую стену, отделяющую ее от Запада». «Моральной болезнью» Федотов характеризовал евразийство за отречение от Запада и идеи автаркии, младороссов за принятие тоталитаризма и фашизма.
Исследователями отмечено, что после переезда в США, несмотря на то, что Федотов «не очень вписался» в жизнь Америки, он во многом одобрительно относился к американской демократии и цивилизации, идеализируя их. Он был увлечен созданием утопической идеи строительства мирового государства и включением в него американского мира. При всей сложности и нереальности этой идеи важно обратить внимание на глубокое осознание Федотовым новой общественно-политической ситуации в мире, взаимозависимости наций и государства и необходимости интеграции, подготовленной предшествующим развитием.
Верный своему культурологическому подходу, возрождение России Федотов связывал с развитием культуры. Большевистская власть оставила, по мысли Федотова, трагическое наследие: нивелирование культуры, уничтожение образованного слоя, закрытие для народных масс источников высшей культуры и в итоге «искусственную выгонку целого поколения в марксистском парнике». «Буйная демократизация» культуры при советской власти, полагал он, несет в себе большую опасность: резкое снижение уровня, «измельчание духовных вод», уничтожение источников пополнения интеллигенции, связанного с планомерным истреблением дворянства и буржуазии. «Опасным» представлялся Федотову и советский варвар-специалист, «относящийся с презрением к высшим культурным благам». Неприемлемым для культурного возрождения России Федотов считал и созданный НЭПом «духовный тип» интеллигента, порождающего формализм и духовную нищету. Культура как высшая форма творчества требует уничтожения большевизма и утверждения свободы. Перед новой Россией стоит задача воссоздания культурного слоя и «выпрямление духовного вывиха целой нации». Осуществление этой задачи возможно лишь при умелой организации культуры, проводимой государством и церковью. Церкви предназначается решение религиозно-духовных, нравственных проблем, которым в новой России будет принадлежать первенствующая роль.
Государство, считал Федотов, должно удовлетворить культурный голод народных масс, обеспечить организацию технического прогресса и сохранить высшие формы национальной культуры, составляющие ее основу. Государство обязано материально и морально поддерживать культуру, воспитывать уважение к интеллигенции и тем самым всемерно способствовать воссозданию нового культурного слоя, свободной творческой интеллигенции. Только союз государства и интеллигенции, полагал Федотов, способен создать условия для возрождения культуры. Однако, этот союз «требует большого самоограничения обеих сторон: от государства – отказа от идеологических притязаний, от всякой идеократии, софократии и прочих видов лжетеократии; от интеллигенции – установления широкого идейного фронта и величайшей осторожности (воздержания) по отношению к чисто политическим и социальным задачам государства». «Мы стоим, – писал Федотов, – перед фактом духовного искалечения народа, искусственно питаемого фальсифицированными продуктами или определенными ядами».
Задача воспитания масс падает на плечи интеллигенции, в становлении которой Федотов считал основополагающим формирование гуманитарной направленности образования. При этом для культурного развития необходимо сохранить иерархию, признать право на духовное неравенство: «…движение вод зависит от разницы уровней». Практическую работу по реализации намеченной программы должна выполнить созданная в новой России «Лига русской культуры» – свободный союз, осуществляющий пропаганду русской идеи в массах. Назначение лиги – выполнение «национального долга» по строительству новой России. Лига не должна стать партией, к государству она должна быть лояльной, но сохранить от него должную дистанцию.
В своей программе возрождения культуры Федотов выдвинул и ряд конкретных мер, определяющих решение поставленных задач. Непрерывность работы в области духовной культуры, по мнению Федотова, должно обеспечить воссоздание разрушенной системы гуманитарного воспитания и образования. Организация работы в вузах должна быть тщательно продумана. «Современная доктрина: “Наука делается в Главнауке, а вузы лишь популяризируют ее”, – считал Федотов, – может найти много последователей». Это создаст угрозу науке как служению истине, культуре как сложному многоединству. Необходимо восстановление историко-филологических и юридических факультетов в высших учебных заведениях, гуманитарных классических школ. Федотов предлагал создавать элитные школы, в которые могут быть включены и лучшие ученики народных образовательных школ, «открытых революцией для низов», уровень которых не превышал уровень рабтехникумов. Создание подобных элитных школ будет способствовать формированию образованного слоя, «иначе неизбежно снижение качества [образования], растворение в пошехонском море». Эти школы могли бы воспитывать учителей и быть питомником университета. В дальнейшем школы не должны быть ни сословными, ни классово-цензовыми. Народные школы должны быть с техническим и гуманитарным уклоном. Общая народная школа в будущем должна сохранить реально-технический характер, обеспечивающий научно-технический прогресс, но с обязательной заменой идеологических положений марксизма и материализма основами национального воспитания. Гуманитарная средняя школа предназначена для подготовки студентов гуманитарных факультетов. Университетские вступительные экзамены предостерегают от захлестывающего варварства в образовании, а система стипендий обеспечивает приток в высшую школу демократических низов.
Большое значение в возрожденной России Федотов придавал и науке. Он осуждал идеологизацию и политизацию науки в советском обществе, политику власти, ограничивающую деятельность старых преподавательских кадров в высших учебных заведениях, и предостерегал от того, чтобы внимание к политической благонадежности, присущее во многом советскому времени, не мешало ученым. Они должны профессионально противостоять натиску надзирателей науки. «Установление границ и распорядка этого мира есть задание самой русской науки и не может быть предвосхищено государством». Федотов выступал за развитие науки, свободной от политики. Вместе с тем он предупреждал, что свободная наука может попираться и диктатурой, и демократией, и даже самими учеными под флагом автономии и что «только культура может спасти культуру».
Возрождение России Федотов связывал с христианством, с его духовными и культурными ценностями. Возрождение страны он не мыслил без изменений, связанных с религией и положением Церкви. Он осуждал «богоборческую ярость» советской власти, пагубные последствия революции, в результате которой от религии были отвергнуты широкие массы населения и возник религиозный индифферентизм. Но Федотов считал, что гонения советской власти не уничтожили православную церковь и что она проявила большую духовную силу и способность к творческому восстановлению. Одновременно он признавал, что завоевание народных масс после атеистического раздолья потребует большой культуры и перестройки церковных работников, выработки разных форм церковно-социального служения. Церковь в России – «хранительница самых чистых и глубоких национальных традиций», поэтому она должна получить свободу, которая не будет свободой изгоев и изгнанников. Государство может оказывать церкви поддержку обеспечением религиозного (факультативного) преподавания в школе для всех вероисповеданий, материальными затратами на содержание храмов, признанных исторической и художественной ценностью, без профанирующего обращения их в музеи. В свою очередь, церковь, политически лояльная к государству, должна сохранять независимость своего нравственного суда. Тогда откроются пути для медленного срастания православной церкви с новым демократическим обществом.
Федотов верил в возрождение истинного христианства, в оцерковление культуры, что означает не подчинение внешнему авторитету церкви, а осуществление «религиозно-культурного единства, при котором Церковь не противостоит культуре, но творит ее в своих недрах». Только православие способно решить социальные проблемы, выполнив заветы христианства. «Если грядущая Россия будет страной народовластия, то она найдет церковные формы его освящения». Наступит время, когда Церковь проявит свое подвижничество и всенародное служение, и это явится началом воскресения России.
Рассмотрение созданной Федотовым программы, или комплекса мер, необходимых для возрождения России, – яркое свидетельство высокого профессионального мастерства историка-эмигранта и его преданности интересам России.