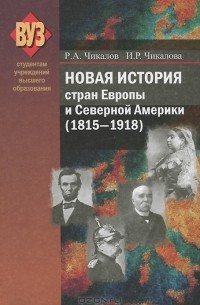Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Парламентская реформа 1832 г. и чартистское движение в Великобритании
Для Великобритании XIX – начала XX в. одним из наиболее значительных событий стал переход к строю буржуазной демократии. Но в отличие от Франции и США, где буржуазно-демократические порядки установились в ходе революций, британский путь к ним лежал через реформы, в том числе парламентские. Их необходимость обусловливалась архаичностью системы формирования нижней палаты. В Великобритании до парламентских реформ основную массу депутатов составляли представители мелких городов и местечек, в разное время получивших это право. Известен случай, когда на выборах 1831 г. в одном из округов депутата избирал один избиратель. Это – курьез, но остается фактом чрезвычайная узость электорального круга. В среднем на одно местечко приходилось 12 избирателей и по 2 депутата. К тому же множество местечек являлись собственностью крупных землевладельцев, которые прямо указывали жителям, за кого им следовало голосовать. В то же время новые города, выросшие на волне промышленной революции, либо вообще не выбирали, либо имели представительство, не соответствовавшее численности населения. Лондон с полумиллионным населением избирал 4 депутатов, а 165 тыс. населения графства Корнуэлле посылало 44 своих представителей. Поэтому городская промышленная буржуазия настойчиво добивалась реформирования избирательной системы.
Реформа, проведенная вигами в 1832 г., отвергла средневековую избирательную систему равного представительства от корпоративных единиц и ввела новый демократический порядок избрания депутатов пропорционально количеству населения. Было уничтожено 56 «гнилых» местечек, насчитывавших менее 2 тыс. жителей, с 2 до 1 депутата сократилось представительство от оставшихся. Право избирать депутатов впервые получило население 42 городов, в числе которых крупные торгово-промышленные центры – Бирмингем, Лидс, Манчестер, Шеффилд.
Еще одной составляющей частью реформы явилась замена феодального принципа имущественного ценза, критерием которого была недвижимость, буржуазным: имущественный ценз стали определять доходом. Это привело к расширению круга избирателей. В городах ими стали все собственники и арендаторы домов или нежилых строений, приносивших доход не менее 10 ф. ст. в год, в графствах – владельцы участков (фригольдеры), а также наследственные и долгосрочные арендаторы (копигольдеры), имевшие 10 ф. ст. чистого, т. е. за вычетом всех причитающихся рент и платежей, годового дохода с земли. Краткосрочные арендаторы становились избирателями при условии уплаты годовой ренты в 50 ф. ст. В результате реформы число избирателей увеличилось на 455 тыс. человек, или вдвое. Право голоса обрели около 1 млн человек при населении в 24 млн. Избирательное право, таким образом, стало достоянием лишь городской и сельской буржуазии. Однако реформа имела далеко идущие политические последствия. С одной стороны, изменение социального состава Палаты общин уже на протяжении 30-х гг. привело к изменению соотношения сил между нею и королевской властью в пользу Палаты общин, следствием чего явилось бесповоротное утверждение принципа формирования кабинета министров из представителей парламентского большинства и ответственности кабинета перед парламентом – уже в 1835 г. впервые в истории Англии правительство вышло в отставку по итогам выборов. С другой стороны, поляризация мнений в парламенте по вопросу об избирательной реформе 1832 г. положила начало новому партийному размежеванию: делению на либералов (реформистов) и консерваторов, созданию тем самым викторианской двухпартийной системы.
Значение избирательного закона 1832 г. нельзя оценивать только исходя из факта расширения электората. Оно значительно шире: в обществе сложилось осознание необходимости дальнейших перемен и понимание возможности их достижения эволюционным путем. Дух реформы 1832 г. ощущается в последующих конституционных нововведениях. Принятый в 1835 г. закон о муниципалитетах в городах упразднил привилегии гильдий и аристократии, создал муниципальные советы и, предоставив право голоса всем налогоплательщикам, заложил основы городского самоуправления на буржуазных принципах. Был трансформирован имущественный ценз для депутатов Палаты общин. При королеве Анне был установлен порядок, согласно которому депутатами Палаты общин могли быть владельцы земельной собственности в 600 ф. ст. в графствах и в 300 ф. ст. в городах. В 1838 г. наряду с земельной признали и движимую собственность. В 1858 г. имущественный ценз был отменен полностью.
В начале 30-х гг. XIX в. в Англии сложилась ситуация широкого общественного недовольства. Парламентская реформа 1832 г. вопреки надеждам народных масс расширила круг избирателей только за счет крупной и средней городской и сельской буржуазии. Закон о бедных 1834 г. изъял у местных приходов право выдавать пособия и передал их государственным органам на содержание работных домов. В них помещали всех, признанных пауперами, независимо от того, была ли нужда вызвана временной безработицей, болезнью или преклонным возрастом. Поскольку закон исходил из предпосылки, что бедность порождается «мошенничеством, ленью и расточительностью», содержание в работном доме рассматривалось как наказание. Условия жизни здесь были сродни тюремным: грубо и плохо приготовленной пищи не хватало; детей отделяли от родителей; супружеские пары разъединяли; без письменного разрешения не допускались свидания даже с родственниками; всех трудоспособных обязывали работать. Новую систему, несмотря на массовое сопротивление, ввели по всей стране. Она вызывала у людей труда ужас и чувство безнадежной обреченности.
Разочарование биллем о реформе, возмущение законом о бедных, отказ тред-юнионам в статусе юридического лица – все это подводило рабочих к пониманию необходимости всеобщего избирательного права. Справедливое представительство в органах государственной власти казалось решающей предпосылкой социальных преобразований, которые позволили бы рабочим, по выражению одного участника движения, «при 3-часовом рабочем дне иметь добрый кусок мяса, сливовый пудинг и кружку крепкого пива».
В июне 1836 г. группа квалифицированных ремесленников по инициативе Уильяма Ловетта образовала Лондонскую ассоциацию рабочих. В 1838 г. она сформулировала и опубликовала в форме петиции программу, включавшую шесть пунктов политического характера:
• всеобщее избирательное право для взрослого мужского населения;
• равные избирательные округа;
• ежегодное переизбрание членов парламента;
• оплата членов парламента;
• тайное голосование;
• отмена имущественного ценза на выборах в парламент.
Эти требования встретили поддержку 150 массовых организаций, в том числе Большого северного союза, руководителем которого был Фергюс О'Коннор. Так началось движение, ставшее известным как чартизм (от англ, charter – хартия).
Оно быстро стало массовым и, как следствие этого, неоднородным. Для одних главное в нем состояло в завоевании избирательного права как средства политического и социального освобождения, для других – в ликвидации работных домов, установлении 10-часового рабочего дня и гарантированной «справедливой платы», для третьих – в возвращении к утраченному обществу мелких производителей и квалифицированных ремесленников. Участников разделяли взгляды и на методы борьбы. Постепенно в движении сформировались два течения. В первом из них («физической силы») одни лидеры, как Джулиан Гарни, признавали вооруженное восстание в качестве необходимого условия осуществления требований хартии; другие, в их числе О’Коннор, Джеймс О'Брайен, считали революционную борьбу крайним средством. Сторонники второго течения («моральной силы») во главе с Ловеттом настаивали на преобразованиях путем законодательных изменений.
При всех различиях во взглядах на способы достижения цели основой выступлений чартистов являлось стремление заставить враждебно настроенный и упорно сопротивлявшийся парламент принять шесть пунктов Хартии. Широкое обсуждение петиции, с которой вожди чартизма намеревались обратиться в парламент, развернулось с августа 1838 г. В Глазго на митинге присутствовало 150 тыс. человек, в Бирмингеме – 200 тыс., в Манчестере – 250 тыс. Всего петиция собрала более 1,2 млн подписей.
С февраля по сентябрь 1839 г. в Лондоне работал первый чартистский национальный конвент. Он направил во все концы страны своих представителей, которые вербовали новых сторонников, распространяли пропагандистскую литературу, собирали подписи под петицией. Конвент разработал план борьбы за Хартию на случай ее отклонения парламентом. Он предусматривал всеобщую стачку, отказ от уплаты налогов и арендной платы, изъятие денег из сберегательных касс, бойкот всех не сочувствовавших чартизму торговцев.
12 июля 1839 г. петицию вручили парламенту, но Палата общин отвергла ее подавляющим большинством голосов. Однако ответные действия чартистов ограничились локальными вспышками насилия и уличных беспорядков. Конвент не смог организовать массовые выступления, как это было задумано, и в сентябре 1839 г. самораспустился.
Выяснение причин провала привело чартистов к выводу о необходимости создания единой политической организации. Этот замысел реализовали в июле 1840 г., создав Национальную чартистскую ассоциацию во главе с О'Коннором. Через два года она насчитывала более 50 тыс. членов. Ассоциация разработала вторую петицию, которая в дополнение к прежним политическим включала социальные требования. Они предусматривали отмену закона о бедных 1834 г., повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, уменьшение налогов. Эту Хартию подписали более 3,3 млн человек.
Палата общин в мае 1842 г. вновь отвергла петицию, что привело к массовым забастовкам в промышленных районах страны с требованиями, обобщенным выражением которых стал лозунг: «Хартия и справедливая заработная плата!». Несмотря на невиданный размах движения, оно и на этот раз не увенчалось успехом: едва забастовка стала всеобщей, выяснилось, что стачечники не знают, каким путем идти дальше – Национальная ассоциация вела себя пассивно. Власти с помощью армии и полиции овладели положением. Преследованиям подверглись многие видные чартисты, только арестованных насчитывалось полторы тысячи.
Новая неудача ослабила Национальную ассоциацию, но ее члены не отказались от борьбы в иных, нежели подача петиций, формах. Продолжались участие в стачечных выступлениях тред-юнионов и борьба против законов, ограничивавших ввоз зерна. Еще одно направление развития наметили кооперативы, которые отказались от претензий изменить общественный строй и предпочли сосредоточиться на экономических проблемах ради улучшения материального положения рабочих. Сам О’Коннор выдвинул одобренную в 1846 г. съездом чартистов идею организации кооперативного общества для покупки земель с целью раздачи их мелкими участками рабочим, чтобы они могли вернуться к земледелию.
Последний всплеск чартизма пришелся на 1848 г., когда в парламент передали третью по счету петицию. Палата общин, обезопасив себя сосредоточением войск, отклонила ее. Чартизм вступил в полосу окончательного заката. Последний значительный митинг чартистов состоялся в 1852 г. на похоронах О’Коннора.
Чартизм впервые вывел рабочее движение Англии за рамки экономической борьбы и направил активность пролетариата в политическое русло. Выполнения требований Хартии не удалось добиться, но агитация за них сыграла огромную роль в ускорении процесса демократизации политического строя Великобритании. Английские рабочие периода чартизма шли во главе европейского рабочего движения, разрушая дискриминацию пролетариата и борясь за воплощение в жизнь своих политических и социальных идеалов. Чартизм потерпел поражение, но показал всеобщую заинтересованность в справедливом представительстве, с которым связывались надежды на социальные преобразования. Буржуазия, стремившаяся к усилению политического влияния, использовала желание широких масс участвовать в формировании парламента, сделав ставку на расширение электората за счет наиболее обеспеченной части рабочего класса, на голоса которой имела основания рассчитывать.