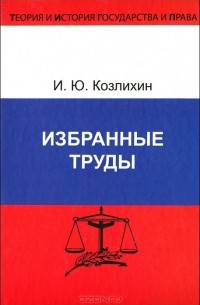Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
§ 1. Античный архетип концепции правления права
Античные представления о праве и законе вытекают из религиозно-мифологического правопонимания. В них в первозданном и незамутненном виде предстает процесс рождения права как специфического регулятора человеческих отношений тогда, когда они выходят за рамки ограниченного круга лиц, и возникает потребность в их упорядоченности и предсказуемости. Право возникает как сила, способная упорядочить человеческое общение путем исключения из него, насколько это возможно в принципе, индивидуальных произволов. Это становится возможным благодаря таким качествам правовых норм, как деперсонифицированность и всеобщность. Не случайно представления о праве зародились как о некоей надчеловеческой божественной воле, привносящей порядок в земной мир. Первыми правоведами были жрецы, которые, используя специальный ритуал, лишь толковали божественную волю. Именно связь с божеством придавала правовым нормам общеобязательность и всеобщность. Несмотря на то, что в античном мире быстро произошла рационализация сознания, а законотворческие и судебные функции были отделены от жреческих, сам принцип деперсонифицированности, всеобщности и обязательности сохранился в правопонимании как ведущий, смыслообразующий.
Античное правопонимание строилось на противопоставлении закона (упорядоченности) беззаконию (беспорядку и анархии). И хотя сам принцип правления закона, а не людей, в окончательном виде был сформулирован только Аристотелем, эта идея, начиная уже с Гераклита, так или иначе, присутствовала в рассуждениях античных авторов. Для адекватной реконструкции античных представлений о праве и законе необходимо учитывать, по крайней мере, два момента. Первый, свойственный всем древним народам, заключается в убеждении, «что личность – часть общества, что общество включено в природу, а природа – лишь проявление божественного». Второй связан с феноменом античного полиса, представляющего собой гражданскую общину, мыслимую древними греками (и римлянами) как единственно возможную форму человеческого общения. Поэтому понятие закона органически входило в понятие полиса. Одно не мыслилось без другого, ибо полис понимался как упорядоченное соответствующим образом общение. Цицерон выразил эту идею в понятии полиса как общего правопорядка, хотя имплицитно она присутствовала в греческой мысли на протяжении столетий (уже Гераклит призывал сражаться за законы, как за стены своих городов). Следует обратить внимание на то, что понимание закона в Древней Греции не соответствует современному. Слово «номос» означало не только «позитивный закон», но и «традицию», «обычай», «обыкновение», вообще установленный порядок. По Гераклиту, закон полиса номос – это проявление всеобщего космического закона – логоса, дающего меру всему сущему: даже солнце не может перейти своей меры. Таким образом, у Гераклита речь идет не о правлении «человеческого» закона, а о непосредственном правлении не зависящего от воли людей всеобщего космического закона – логоса. Он призывал к смирению перед ним, как перед всеобщим мировым порядком. Отсюда и его идея правления мудрых, которые не более чем посредники между логосом и людьми. Повиновение логосу происходит через повиновение мудрому, познавшему логос. Сами человеческие законы носят вторичный характер, они должны являться продолжением всемирного космического закона: «Ибо все человеческие законы питаются единым божественным. Ибо последний господствует, насколько ему угодно, довлеет всему и все побеждает». Итак, полис зиждется на законе, однако поскольку толпа не способна к познанию всеобщего закона – логоса, постольку требуется правление мудрого, транслирующего требования логоса. Мудрым же законы человеческие не нужны, ибо, познав логос, они сливаются с ним.
Разрыв с натурфилософским мировоззрением предприняли софисты. Они противопоставили природный и человеческий закон, попытались «вырвать» полис из природы, но сохраняя при этом понимание закона как общей меры. Критицизм софистов по отношению к общеполисным ценностям являлся закономерным при переходе от одной системы миропонимания к другой. Вся последующая греческая мысль, по сути, выросла на отрицании релятивизма софистов, на критике их отношения к позитивному закону. Школа софистов, стремясь поставить в центр своих рассуждений не полис, а человека, в известном смысле нарушала традиции полисного мышления. В античности такой подход неизбежно приводил к умалению авторитета позитивного полисного закона и, таким образом, самого полиса. Человек казался слишком зыбким основанием справедливости, закона, порядка. Идея правления законов, а не людей, выступила как антитеза индивидуалистическому нигилизму софистов. Не противопоставление, а соединение природного и человеческого, естественного и искусственного, гармонизация этих двух сторон бытия – вот цель постсофистической греческой мысли.
Принцип законности как основополагающий для жизни полиса был выработан уже в поучениях семи мудрецов, для которых лучшим являлось такое устройство полиса, в котором отдается предпочтение закону, дающему «меру всем человеческим поступкам». Сократ в спорах с софистами довел эту идею до совершенства. Для Сократа подчинение закону – это условие существования полиса. «Законное и справедливое – одно и то же», – не устает повторять он. Эта мысль представляется более глубокой, чем просто утверждение о желательности и необходимости совпадения законного и справедливого. У Сократа, в изложении Ксенофонта, речь шла не об оценке действующих позитивных законов, а о законосообразном порядке вообще.
Каждый закон в отдельности или судебное решение могут быть несправедливыми, справедливость же является результатом совокупного действия всех законов полиса. А носителем высшей справедливости является полис как урегулированное упорядоченное общение между людьми.
Таким образом, закон, точнее, система законов, у Сократа осуществляет созидающую, конституирующую функцию. Сам полис существует лишь в форме всеобщего исполнения его законов. Справедлив не закон сам по себе, а порядок, основанный на законе, – а это, по сути, полис. Итак, полис – это совокупность граждан, подчиняющихся закону. «Повсюду в Элладе, – говорит Сократ, – установлен закон, чтобы граждане приносили клятву в единомыслии… Это делается для того, чтобы они повиновались законам. Когда граждане сохраняют это повиновение, государства бывают самыми счастливыми и сильными». Панегирик закону продолжается восхвалением законопослушного гражданина: «…да и в частных делах кто менее наказывается государством и кто более уважается, как не тот, кто повинуется законам? Кто менее терпит ущерба и кто более побеждает в судебных местах? Кому скорее доверяют опеку над имуществом или над сыновьями или над дочерями? Кого все государство признает более достойным доверия, чем человека законного? От кого скорее получат удовлетворение своих справедливых притязаний родители, родственники, слуги, друзья, граждане, чужестранцы? Кому более будут доверять неприятели при заключении перемирия или договора о мире? С кем более, как с человеком законным, захотят сделаться союзниками? Кому более доверят союзники предводительство, охрану крепостей, города?.. Вот почему я доказываю, что законное и справедливое одно и то же» (Ксенофонт. Воспоминания, 4, 4, 17).
В этом отрывке прослеживается очень типичное для греческой мысли отождествление идеального гражданина с полисом в целом, т. е. с коллективом равных перед законом граждан. Гражданин как лицо частное у Сократа плавно переходит в лицо политическое как идеальное выражение полиса. Между гражданином и полисом практически нет никакой границы: законопослушный гражданин тождествен полису, а полис тождествен законопослушному гражданину. Эти же идеи высказывает Сократ и в платоновском диалоге «Критон». Безусловность подчинения законам рассматривается им как проявление высшей справедливости, как долг гражданина перед полисом. Законы, полис, отечество у Сократа – нерасчлененные понятия. Предоставляя гражданину право покинуть отечество, если ему не нравятся существующие законы, Сократ требует абсолютного подчинения законам для тех, кто остался. «О том же из вас, кто остался, зная, как мы судим в наших судах и ведем в государстве прочие дела, мы уже можем утверждать, что он на деле согласился выполнять то, что мы велим; а если он не слушается, то мы говорим, что он втройне нарушает справедливость тем, что не повинуется нам, своим родителям, тем, что поступает вопреки нам, своим воспитателям, и тем, что, дав согласие нам повиноваться, он все же оказывает неповиновение…» (Критон, 52). Высшая справедливость у Сократа, таким образом, заключается в соблюдении законов, что приводит к единению граждан, единомыслию, упорядоченности и гармонии. Но эта гармония достигается не посредством прав, а посредством общих обязанностей, имеющих не столько юридический, сколько нравственный характер. Поэтому-то и закон, даже несправедливый, требует подчинения ему: в противном случае порождается еще большая несправедливость, ибо нарушается обязанность подчиняться. Закон определяется Сократом через подчинение, через обязанность, поэтому и принцип законности – это нравственное единение сограждан вокруг знающих правителей и разумных законов.
Платон как ученик Сократа отталкивается от его идей и не приемлет софистического противопоставления позитивного и естественного права, объединяя их единым божественным источником, ибо «Бог есть мера всех вещей, а не человек, как думают некоторые». Не соглашаясь с релятивизмом софистов, Платон ищет вечные, неизменные основания человеческой жизни, стремится дать ответ на вечный вопрос «Как надо жить?» (О государстве, 352 в). Ответ звучит, в общем, просто: жизнь должна быть гармоничной, урегулированной, дружеской, соотнесенной с мировым божественным порядком, а не с природой человека. Споря с софистами, он сходится с ними в оценке человека как существа страстного. Но если младшие софисты восхваляют своеволие человека, считая «своевольную жизнь» правильной, то для Платона идеал – воздержанность и подавление страстей.
Вот что, например, говорит младший софист Калликл: «Кто хочет прожить жизнь правильно, должен отдавать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были они необузданны, должен найти в себе способность им служить (вот на что ему мужество и разум), должен исполнять любое свое желание» (Горгий, 49 е). Платоновский Сократ возражает Калликлу: «… та часть души, где заключены желания, легковерна и переменчива» (Горгий 493). Человек, руководствующийся необузданными желаниями, несправедлив и несчастлив: «…подобный человек не может быть мил ни другим людям, ни Богу, потому что он не способен к общению, а если нет общения, нет и дружбы. Мудрецы учат, Калликл, что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, порядочность, воздержанность, справедливость, по этой причине они и зовут нашу Вселенную “порядком” (“космосом”), а не “беспорядком”, друг мой, и не “бесчинством”» (Горгий, 508). Вечная и неизменная естественная справедливость лежит в основании этого порядка, именно ей отдает он предпочтение, а позитивный закон лишь одно из средств ее реализации.
Полис для Платона – это совокупность людей, призванных делать что-либо вместе (О государстве, 351 с). Поэтому индивидуализм софистов совершенно неприемлем для него, как неприемлема и вытекающая отсюда идея о праве сильного у младших софистов. Вместе с тем Платон все же мыслит теми же категориями. Право силы он отвергает потому, что это право отдельного индивида – право на произвол, на своеволие. Применение же силы со стороны полиса не только оправданно, но и необходимо. Ведь справедливость есть соразмерность и соподчиненность всех начал: разума, воли и чувства, в признании общей цели и направляющей к ней силе, в том числе и силе закона, суть которого состоит не в равном распределении прав, а в распределении обязанностей по принципу «каждому – свое». Итак, закон есть возложение обязанности и исключение всего того, что разъединяет граждан, ибо нет для государства ничего более лучшего, чем то, что его сплачивает и объединяет (О государстве, 462 в).
Сплоченность, объединенность, регламентированность превращаются у Платона в идею фикс. Весь мир находится в движении – это отлично понимал Платон, и, понимая это, он становится диалектиком «наоборот». Все зло от движения, поэтому его нужно остановить. Не будем рассуждать на тему бесперспективности и недостижимости остановки всеобщего движения и изменения – нас интересует только правовой аспект этой проблемы. Платон отлично понял суть правовой нормы как общего и абстрактного правила поведения, неизбежно оставляющего какое-то «свободное поле» и поэтому имеющего объективные пределы воздействия на людей. Только закон недостаточен для создания и поддержания идеального государства тотальной регламентированности. Платон оказался прав: ни одно тоталитарное государство не имело в основе своей закона как всеобщего абстрактного правила поведения.
Итак, такие качества правовых норм, как всеобщность и абстрактность, рассматриваются Платоном как весьма существенный недостаток. Поэтому государство, в котором господствует закон, лишь второе в платоновской иерархии форм правления, а истинным, т. е. знающим, правителям идеального государства законы не нужны. Их Платон сравнивает с врачами, которых «почитают независимо от того, лечат они нас добровольно или против воли… действуют они согласно установлениям или помимо них… лишь бы врачевали они на благо наших тел» (Политик, 293 в). Так и в случае с истинным правителем: неважно, правит он по законам или помимо них (293 с), главное, чтобы это делалось на основе знаний и справедливости (293 е), а царское знание – это умение судить и повелевать (292 в). Разум выше позитивных законов (294), и не у законов должна быть сила, а у царственного мужа и, кстати сказать, независимо от того, правит он или нет (293). – «Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может разум быть чьим-либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе он подлинно свободен» (Законы, 875 д). Может показаться, что Платон поет гимн человеческому разуму, но это не так. К человеческому разуму он относится скептически. Недаром люди для него – это стада, пасущиеся в полисах. С одной стороны, Платон убежден в могуществе человеческого разума, с другой – полагает, что разумность не присуща человеку по природе. Разум присущ лишь царственному мужу, а человек нецарственный не может, не вправе решать, как ему жить: полисному стаду необходим пастух. Позитивный закон выполнить эту задачу в полном объеме не может, ибо жизнь человеческая находится в постоянном изменении, а закон не в состоянии дать установления на все случаи жизни. Кроме того, люди все разные, и к каждому нужен индивидуальный подход. А «закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим для каждого и это ему предписать» (Политик, 294 д).
Вот тут-то и появляются главные сложности у Платона. Законодатель (он же правитель) должен дать своему «стаду» предписания «относительно справедливости и взаимных обязательств…», однако он «не может, адресуя этот наказ всем вместе, дать точное и соответствующее указание каждому в отдельности… он издает законы, имеющие самый общий характер, адресованный большинству» (Политик, 295). Но только он – истинный правитель – может определить, что есть благо и в чем заключается счастье; сам он не связан законами, которые издал. Платон не соглашается со своим учителем Сократом в том, что для изменения закона следует убедить сограждан в целесообразности такого изменения (Политик, 296). Правители свободны в отношении закона и своих подданных, они имеют даже право на прямое насилие, чтобы навязать им то, что считают лучшим, «ибо сила искусства выше законов» (Политик, 297). Итак, в конечном счете, Платон пришел почти к тем же выводам, что и младшие софисты, но оказался менее «демократичным», предоставляя «право на своеволие и насилие» лишь некоторым – истинным правителям. Там же, где истинного разумного правителя нет, необходимо всеобщее подчинение законам. И такое государство, где над всеми господствует закон, – не лучшее, а лишь подражание ему. Но и в этом государстве «законности» закон не правит, он подавляет: если дать человеку волю, первое, что он сделает, навредит себе. Поэтому, «коль скоро в городах не рождается, подобно матке в пчелином рое, царь, тотчас же выделяющийся среди других своими телесными и духовными свойствами, надо, сойдясь всем вместе, писать постановления, стараясь идти по следам самого истинного государственного устройства» (Политик, 300 с). Это государство приобретает некое подобие правового: в нем закон предписан и гражданам, и правителям, а они – его рабы. Соблюдение закона должно быть абсолютным и беспрекословным. Никто из граждан не должен сметь поступать вопреки законам: за это надо карать смертью (Политик, 297 е), хотя «природе соответствует не насильственная власть закона, а добровольное подчинение ему» (Законы, 690 с), добиться которого можно путем специальной платоновской системы воспитания и психологического воздействия на граждан на протяжении всей их жизни.
Итак: соразмерность, упорядоченность, полное подавление «своеволия» и на этой основе гармония как всеобщее единение. Личность у Платона полностью сливается с полисом: обезличены и те, кто подчиняется, и те, кто правит. И в этом смысле платоновский закон носит антиправовой характер, ибо там, где нет личности, не может быть и права. Платон стремится элиминировать личность, подавить ее либо с помощью прямого правления мудрых, либо с помощью закона-тирана. Но даже такой закон несовершенен с точки зрения Платона: он оставляет «слишком» много свободы человеку. Поэтому лучшее государство обходится вообще без законов: там уже достигнуто абсолютное единение, праву и закону места там нет. Закон рассматривался Платоном как один из способов подавления разнообразия, достижения и поддержания коллективистского унифицированного единства. К этому неизбежно приводит логика «достижения единства», и это действительно, верно, если, во-первых, считать такое положение дел реально достижимым и, во-вторых, оценивать его положительно.
Невозможность (и ненужность) абсолютного единства прекрасно понял Аристотель. Он, наиболее последовательный защитник меры во всем, не приемлет платоновского ригоризма: достижения единомыслия и единодействия любой ценой. Утопии не чужды и Аристотелю, но он гораздо больший реалист и готов принимать мир (полис) таким, каков он есть. Для Аристотеля достижение единства тоже важно: иначе не может существовать полис, да и вообще любая общность людей. Но весь вопрос – в пределах этого единства. Аристотелевский полис – это единство, имеющее в своей основе разнообразие. «Государство, – пишет Аристотель, – представляет собой некое общение, а, следовательно, прежде всего является необходимостью занимать сообща определенное место; ведь место, занимаемое одним государством, представляет собой определенное единство, а граждане являются сообщниками одного государства» (Политика, 1261 а). Однако «ясно, что государство при постоянно усиливающемся единстве перестает быть государством. Ведь по своей природе государство представляется неким множеством. Если же оно стремится к единству, то в таком случае из государства образуется семья, а из семьи – отдельный человек: семья, как всякий согласится, отличается большим единством, нежели государство, а один человек – нежели семья. Таким образом, если бы кто-нибудь и оказался в состоянии осуществить это, то все же этого не следовало бы делать, так как он тогда уничтожил бы государство. Далее, в состав государства входят не только отдельные многочисленные люди, но они еще и различаются между собой по своим качествам (eidei), ведь элементы, образующие государство, не могут быть одинаковыми» (Политика, 1261 а 20). И еще одна важная для нас цитата: «Дело в том, что следует требовать относительного, а не абсолютного единства как семьи, так и государства. Если это единство зайдет слишком далеко, то и само государство будет уничтожено; если даже этого и не случится, все-таки государство на пути к своему уничтожению станет государством худшим, все равно как если бы кто симфонию заменил бы унисоном или ритм – одним тактом» (Политика, 1263 в 30–35).
Понимание общества как единства разнообразных элементов – предпосылка для понимания сущности права и его смысла как социального феномена. По сути дела, Аристотель «очеловечивает» право в гораздо большей степени, чем это пытались сделать софисты, в конечном счете, пришедшие к антиправовым взглядам, к восхвалению права силы. Итак, по Аристотелю, невозможно создание государства «без разделения и обособления входящих в него элементов» (Политика, 1264 а 5). Полис представляет собой не просто высшую и единственно возможную форму общения людей, но и предполагает общность разнообразных людей, ибо одинаковые не могут составить общество. Прежде всего, Аристотель проводит разделение и обособление собственности. Он, в отличие от Платона, понимает, что «люди более заботятся о том, что принадлежит лично им; менее заботятся о том, что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого» (Политика, 1261 в 35). Платон стремится к всеобщему единению на основе всеобщего обобществления, не оставляя тем самым места для права; Аристотель – к упорядоченному общению на основе разделения; человек становится субъектом права как носитель собственности: цель законов – не подавление частных интересов, а их гармонизация. «Человеку свойственно чувство любви к самому себе» (Политика, 1263 в), и с этим нельзя не считаться. «Поэтому собственность должна быть общей в относительном смысле, а вообще частной» (Политика, 1663 а 25). Поскольку самодостаточный полис состоит из различных людей разнообразных профессий и обладающих частной собственностью, постольку возникает и необходимость обмена между ними. Вместе с тем полис предполагает нечто общее между гражданами: стремление к благой жизни. На этой основе и разворачивается у Аристотеля право – справедливость, объединяющее частное и общее.
Аристотель находит два вида справедливости (права) в человеческих отношениях и тем самым существенно углубляет понимание права. Право-справедливость выступает у него в качестве особого отношения между свободными (не рабами), равными и соизмеримыми людьми, гражданами полиса, включенными в две системы отношений: вертикальную (полис – гражданин), регулируемую распределяющей справедливостью, и горизонтальную (между гражданами как частными лицами), т. е. сферу действия уравнивающей справедливости. Распределяющая справедливость действует между согражданами и связана с распределением почестей, имуществ и всего прочего по критерию достоинства. Здесь действует принцип соотносимости и соизмеримости граждан. Сам же критерий достоинства не является абсолютным, а изменяется в соответствии с формой государственного устройства. Это может быть свобода (в демократии), богатство (в олигархии), добродетель (в аристократии). Именно распределяющую справедливость имел в виду Аристотель, когда писал в «Политике», что не форма государственного устройства подгоняется к законам, а законы – к форме государственного устройства.
Уравнивающая справедливость действует в другой системе отношений – между людьми как частными лицами, в сфере взаимного обмена. Обмен понимается Аристотелем и как обязательства, возникающие из договоров, и как обязательства, возникающие из деликтов: как произвольный и непроизвольный обмен. Критерий уравнивающей справедливости не привносится извне как в первом случае, а внутренне присущ ей, т. е. имманентен праву как таковому. В таком случае «достоинства» сторон не имеют никакого значения, стороны выступают как равные субъекты права: «Ведь безразлично, кто у кого украл, добрый у дурного или дурной у доброго… закон учитывает разницу только с точки зрения вреда, с лицами же обращается как с равными». Восстановление равенства как среднего между «убытком и наживой» – задача суда. Судья у Аристотеля участвует в решении споров, касающихся обменных, а не распределительных отношений: «…судья уравнивает по справедливости… при тяжбах прибегают к посредничеству судьи, ведь идти к судье – значит идти к справедливости, так как судья хочет быть как бы одушевленной справедливостью» (Никомахова этика, 1132 а 20). Судья находит равное в соответствии с арифметической пропорцией (1132 а 30). Вопросы же распределительной справедливости – определения «достоинства» – лежат вне компетенции суда. Как сказали бы сегодня: «Суд должен воздерживаться от решения политических вопросов». Иными словами, у Аристотеля намечается разделение сферы политики и частной жизни, сферы публичного и частного права, что окончательно было осознано Цицероном и римскими юристами. Аристотель пишет: «То, что признается законным или незаконным, двояко. Нарушение права также двояко: оно может относиться либо к отдельному лицу, либо к обществу в целом. Тот, кто нарушает супружеские обязанности или наносит удар человеку, тот причиняет ущерб отдельному лицу, а тот, кто уклоняется от воинской повинности, наносит ущерб обществу в целом» (Риторика, 1, 13, 1379 в). Хотя Аристотель и не проводит различия между гражданским и уголовным процессом – такого разделения не существовало и на практике, – но в его взглядах наличие двух сфер права прослеживается достаточно ясно.
Аристотель, как и многие другие античные мыслители, природу закона видит в его всеобщности, абстрактности, но, в отличие от Платона, не считает это его недостатком. Закон составляется для общего случая и не может учитывать частности. Это обстоятельство не является порочностью закона или законодателя: погрешность коренится в природе объекта, в природе человеческого поведения (Никомахова этика, 1137 в 15; Политика, 1169 а 10). Поэтому, руководствуясь законом или применяя его, следует учитывать не только букву, но и дух закона, действуя так, как действовал бы сам законодатель, знай он о данном конкретном случае. У Аристотеля нет идеи тотального подчинения закону. Он не противопоставляет справедливость позитивному праву, однако все же справедливость (право) у него выше закона как формального правила поведения (Никомахова этика, 1142 а). В то же время стабильность закона как таковая также представляет собой ценность. Законы надо изменять: с течением времени изменяются даже неписаные законы. Однако делать это следует с большой осторожностью. «Если исправление закона является незначительным улучшением, а приобретаемая таким путем привычка с легким сердцем изменять закон дурна, то ясно, что лучше простить те или иные погрешности как законодателей, так и должностных лиц: не столько будет пользы от изменения закона, сколько вреда, если появится привычка не повиноваться существующему порядку… Ведь закон бессилен принудить к повиновению вопреки существующим обычаям: это осуществляется лишь с течением времени. Таким образом, легкомысленно менять существующие законы на другие, новые – значит ослаблять силу закона» (Политика, 1269 а 15–25).
Плодотворным оказалось понимание Аристотелем закона как свободного от страстей разума: «Закон – это свободный от безотчетных порывов разум» (Политика, 1287 а 32). Аристотелевское понимание закона как веления разума существенно отличается от платоновского рационализма. Платон находит разум вне человека: даже мудрецы – не более чем передатчики некоего космического разума. Для Аристотеля разум – это свойство человеческой души, состоящей из разумной и неразумной частей. Последняя, в свою очередь, подразделяется на растительную – общую для всего живого – и страстную, аффективную, должную подчиняться разумной части души. Поэтому разум выполняет две функции: познавательную и управления страстями. Закон как веление разума, как разум, освобожденный от страстей, выступает как деаффектированное, деперсонифицированное, бесстрастное правило. Поэтому и сам принцип правления законов, а не людей, приобретает практически-политическое значение. Отношения властвования – подчинения, по Аристотелю, автоматически отнюдь не предполагают необходимость правовых норм: «…не может быть законным властвование не только по праву, но и вопреки праву, а подчинять можно и вопреки праву» (Политика, 1324 в 28). Сам же позитивный закон, как уже отмечалось, зависит от формы государственного устройства: «…законы в той же мере, что и виды государственного устройства, могут быть плохими или хорошими, основанными или не основанными на справедливости. А если так, то, очевидно, законы, соответствующие правильным видам государственного устройства, будут справедливыми, законы же, соответствующие отклонениям от правильных видов, будут несправедливыми» (Политика, 1289 в 10). И поэтому принцип правления законов, а не людей, относится, конечно, только к справедливым законам. О правлении закона, а не людей, Аристотель пишет применительно к лучшей форме государственного устройства, которой соответствуют наиболее справедливые законы. «Под какой властью полезнее находиться – под властью лучшего мужа или под властью лучших законов?», – задается вопросом Аристотель. Власть справедливого закона предпочтительнее власти даже наилучшего мужа. «Правители должны руководствоваться общими правилами, и лучше то, чему чужды страсти, нежели то, чему они свойственны по природе, а во всякой человеческой душе они неизбежно имеются» (Политика, 1286 а 20). Более того, «люди, занимающие государственные должности, зачастую во многом поступают, руководствуясь злобой или приязнью» (Политика, 1287 а 40). Поэтому законодательствовать лучше сообща: «Когда гнев или какая-либо страсть овладевает отдельным человеком, решение последнего неизбежно становится негодным; а чтобы это случилось с массой, нужно, чтобы все зараз пришли в гнев и в силу этого действовали ошибочно» (Политика, 1286 а 35). Вместе с тем Аристотель отлично понимает, что и «масса» может ошибаться, поэтому он противник крайней демократии. Его идеал – полития, «когда управление государством возглавляют земледельцы и те, кто имеет средний достаток, тогда государство управляется законами (Политика, 1292 в 27), ибо среднее и есть справедливость.
Таким образом, у Аристотеля не любая правильная форма правления основывается на принципе правления законов, а наилучшая – полития – там властвует закон, а не страсти. Вместе с тем следует помнить, что в «Политике» анализируются те законы, которые имеют отношение к организации власти в полисе, т. е. к сфере распределяющей, а не уравнивающей, спра ведливости. Аристотель стремится исключить, насколько это вообще возможно, «страсти» из отношений властвования и под чинения, т. е. из политической сферы. Ведь именно эта сфера наиболее подвержена страстям человеческим, человеческой субъективности, поскольку критерий справедливости (распределение по достоинству) привносится извне, а не содержится в самом отношении власти – подчинения (как происходит в отношениях обмена). Кажется, что Аристотель стремится подвести под единый принцип право-справедливость, действующее в сфере обменных отношений, подчинить политику праву: «…ясно, что ищущий справедливости ищет чего-то беспристрастного, а закон и есть это беспристрастное» (Политика, 1287 в 5). И «каждое должностное лицо, воспитанное в духе закона, будет судить правильно» (Политика, 1287 в 26). Принцип правления законов, а не людей, означает распространение действия права на политическую сферу, означает необходимость ее упорядоченности и предсказуемости, исключения произвола из отношений власти и подчинения. «Итак, кто требует, чтобы властвовал закон, по-видимому, требует, чтобы властвовало только божество и разум, а кто требует, чтобы властвовал человек, привносит в это и животное начало, ибо страсть есть нечто животное, и гнев совращает с истинного пути правителей, хотя бы они и были наилучшими людьми; напротив, закон – свободный от безотчетных порывов разум» (Политика, 1287 а 30). Здесь правление закона характеризуется как правление разума. Однако, в отличие от Платона, он находит «разум» в самом человеке, а не вне его. Иными словами, Аристотель анализирует свойства права как такового, закон для него не является инструментом для достижения какой-либо цели; правовой закон ценен сам по себе как условие благой жизни, жизни разумной. Правление закона, а не людей, предполагает реализацию имманентных праву качеств – всеобщности, абстрактности, беспристрастности, стабильности, что, в свою очередь, приводит к упорядоченности полисной жизни.
Исследуя закономерности становления концепции правления права, нельзя обойти вниманием Марка Туллия Цицерона. Он нередко упоминается как мыслитель, стоявший у истоков концепции правового государства. «Государство есть достояние народа, а народ не любое соединение людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общности интересов» (О государстве, I, XX). Эта мысль Цицерона, как правило, приводится в качестве доказательства его «первенства». Однако все же это не более чем парафраз его греческих предшественников. Кажется, что с точки зрения углубления понимания сути права более оригинальна другая его мысль: «…если закон есть связующее звено гражданского общества, а право, установленное законом, обязательно для всех, то на каком праве может держаться общество граждан, когда их положение не одинаково? И в самом деле, если люди не согласны уравнять имущество, если умы всех людей не могут быть одинаковы, то, во всяком случае, права граждан одного и того же государства должны быть одинаковы. Да что такое государство, как не общий правопорядок?» (О государстве, I, XXXII). Разумеется, и в этом утверждении нет ничего абсолютно нового для античного мира. Однако такое качество закона, правовой нормы, как юридическое уравнивание фактически неравных, неодинаковых людей, до конца не осознавалось. Даже Аристотель, высказывавший, по сути, ту же мысль, по крайней мере, применительно к сфере обмена, все же одно из условий лучшего государства видел в уравнивании собственности, т. е. в фактическом имущественном равенстве. Цицерон же подчеркивает свойство правовой нормы быть уравнивающей силой в обществе неравных и различных по своим качествам людей. Право предполагает юридическое равенство субъектов, и в случае его нарушения уничтожается и само право как социальный феномен.
Следует еще раз отметить, что у античных мыслителей, включая Цицерона, еще нет осознания взаимосвязи государства и права. «Полис», «civitas» – это понятия правового общества, а не правового государства. Все разновидности смешанных форм правления имели в виду не столько обеспечение права, сколько обеспечение стабильности полиса. Хотя, конечно, и то и другое тесно связано. Вместе с тем у Цицерона важно то, что свобода понимается им не только как состояние, противоположное рабству, но и как право на участие в общих делах. «…При царской власти все прочие люди совсем отстранены от общего для всех законодательства и принятия решений, да и при господстве оптиматов народ едва ли может пользоваться свободой, будучи лишенным какого бы то ни было участия в совместных совещаниях и во власти, а когда все вершится по воле народа, то, как бы справедлив и умерен он ни был, все-таки само равенство это не справедливо, раз при нем нет ступеней в общественном положении» (О государстве, I, XXVII, 43). Для Аристотеля тоже очень важна категория участия, ведь граждане – это те, кто участвует в суде и народном собрании, но участие у Аристотеля связывается не с правом, а с обязанностью. У Цицерона эта проблема выглядит несколько иначе: «…ведь приятнее, чем она (свобода. – И. К.), не может быть ничего, и она, если она не равна для всех, уже не свобода. Но как она может быть равной для всех, уж не говорю – при царской власти, когда рабство даже не прикрыто и не вызывает сомнений, но и в таких государствах, где на словах свободны все? Граждане, правда, подают голоса, предоставляют империй и магистратуры, их по очереди обходят, добиваясь избрания, на их рассмотрения вносят предложения, но ведь они дают, что должны были давать против своего желания, и они сами лишены того, чего от них добиваются другие; ведь они лишены империя, права участия в совете по делам государства, права участия в судах, где заседают отобранные судьи, лишены всего того, что зависит от древности и богатства рода. А среди свободного народа, как, например, родосцы или афиняне, нет гражданина, который… (сам не мог бы занять положения, какое он предоставляет другим)» (О государстве, I, XXXI, 47).
Итак, здесь у Цицерона речь идет уже о политической свободе, о политическом равенстве как формальном юридическом равенстве в сфере политики. Приблизиться к пониманию политической свободы можно было только во времена Цицерона, во времена кризиса полисной организации общества. «Я поздно встал – и на дороге застигнут ночью Рима был», – восклицает Цицерон у Ф. Тютчева. По этой же причине у него происходит обособление естественного и позитивного права. Первое используется в качестве критерия для оценки второго. Надо сказать, что этот процесс присущ переломным моментам истории общества, когда ощущается острая неудовлетворенность существующим положением дел. Поэтому хотя у Цицерона государством может называться только правовое сообщество, сообщество, в котором правит закон, сделать однозначный вывод, исходя из его взглядов, невозможно. Что, собственно, он имеет в виду: правление позитивного права (закона), соответствующего естественному, или прямое правление естественного права? В текстах Цицерона можно найти подтверждение и первого и второго вариантов. Например, он пишет: «…подобно тому, как магистратами руководят законы, так народом руководят магистраты, и можно с полным основанием сказать, что магистрат – это говорящий закон, а закон – это безмолвный магистрат. Далее, ничто так не соответствует праву и естественному порядку (говоря это, я хочу, чтобы подразумевалось, что я говорю о законе), как империй, без которого не могут держаться ни дом, ни гражданская община, ни народ, ни человечество в целом, ни вся природа, ни сама вселенная. Ибо и вселенная повинуется божеству, и ему покорны и моря, и суша, и жизнь людей подчиняется велениям высшего закона» (О законах, III, I, 2). Здесь, с одной стороны, речь идет о правлении естественного права как божественного разума, но, с другой – он правит только магистратами, а те, в свою очередь, уже правят народом. Если истинный закон – это закон естественный («Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе…» (О государстве, III, XXII, 33)) и «отменить его полностью невозможно, и мы ни постановлением сената, ни постановлением народа освободиться от этого закона не можем…» (там же), то тогда речь идет о прямом правлении естественного закона. Кроме того, у Цицерона можно найти немало уничижительных характеристик человеческого позитивного закона как чего-то несовершенного, порочного, часто недостойного вообще называться законом (О законах, I, 43, 11, 13, 14). Позитивный закон часто несправедлив: «Но вот то, что нелепее всего: думать, что все звучащее в постановлениях и законах народов справедливо» (О законах, I, XV, 42). Источник справедливости – только естественный закон, ибо «существует лишь одно право, связывающее человеческое общество и установленное одним законом. Закон этот есть подлинное основание для того, чтобы приказывать и запрещать» (там же).
Взгляды Цицерона можно считать типичными для переломных моментов в истории того или иного общества, когда неудовлетворенность существующим позитивным правом заставляет искать метаюридические критерии для его оценки, и метаюридическое (справедливое) содержание должного позитивного закона. Как кажется, главное для Цицерона – это не свобода, а пути достижения «согласия сословий» через свободу, понимаемую как равная возможность участия в общих делах. «Ведь подобно тому, как при струнной и духовой музыке и даже при пении следует соблюдать, так сказать, лад различных звуков, изменения и нарушения которого нетерпимы для утонченного слуха, причем этот лад все же оказывается согласным и стройным благодаря соблюдению меры в самых несходных звуках, так и государство, с чувством меры составленное путем сочетания высших, низших и средних сословий (словно составленное из звуков), стройно звучит благодаря согласованию самых несходных начал; тем, что музыканты называют гармонией в пении, в государстве является согласие, это теснейшая и наилучшая связь, обеспечивающая безопасность в каждом государстве и никоим образом невозможна без справедливости» (О государстве, II, XLII, 69). Цицерон коснулся здесь очень важной проблемы, которая вновь актуализируется уже в Новое время: проблемы консенсуса как по поводу государственной власти, так и по поводу содержания позитивного закона.
Подведем некоторые итоги анализа развития правовой теории в эпоху античности. Прежде всего, правовая теория развивалась вне связи с теорией государства, ибо государства в буквальном значении этого понятия не существовало и соответственно не существовало понятия государственного суверенитета. Поэтому говорить о становлении концепции правового государства во времена античности – значит, делать очень большое допущение, но вместе с тем говорить о концепции правления права, а не людей, у нас есть все основания, «Предпочтительно, чтобы властвовал закон, а не кто-либо из среды граждан» (Политика, 1287 а 20).
Уже в этом афористичном утверждении Аристотеля видна суть античного взгляда на отношения властвования в обществе: власть персонифицируется – гражданин властвует над гражданином, а право как веление разума должно элиминировать отрицательные проявления человеческого властвования: разум противопоставляется страстям. Вряд ли это можно назвать проявлением «недоразвитости» античных правовых теорий, напротив, античность, предложив достаточно разработанную правовую теорию, вне непосредственной связи с теорией государства, вернее, с теорией государственного суверенитета (как это произошло впоследствии), продемонстрировала, что право является самостоятельным явлением и свои свойства заимствует отнюдь не от государственной власти. Какие же это свойства? Право должно быть положено в основание всякого закона, и право должно иметь в виду благо всех, а не только принимающих законы, будь то даже народное собрание. Иными словами, право не может быть орудием в чьих бы то ни было руках – большинства или меньшинства. Право не терпит исключений, оно есть равная мера для всех: правящих и подвластных, богатых и бедных, сильных и слабых. «Свободные равны перед законом», – говорил Зенон. Утверждение равенства среди неравных, т. е. равенства юридического, – важнейшая функция права. Оно действительно возникло с появлением неравенства между людьми, неравенства фактического, однако отнюдь не затем, чтобы увековечить его. Закон может выражать лишь волю сильного, но тогда он не будет являться правом.
Уже в древности хорошо понимали, что править, господствовать можно посредством силы (тогда форма правления будет неправильной, извращенной: тирания, олигархия, охлократия) или основываясь на праве (тогда мы получаем правильные формы правления: монархия, аристократия, демократия). С момента своего появления право призвано не усиливать власть сильного, а ограничивать ее. И Законы Солона, положившие начало Афинскому государству, и римские Законы XII таблиц были приняты по требованию «бедных и угнетенных» с тем, чтобы «сильные» не могли использовать свою силу произвольно. – Закон равен для всех. Так, Солон гордился тем, что он дал равный закон «благородным и подлым». Закон должен быть обнародован (Законы XII таблиц были выбиты на камне и выставлены на площади для всеобщего обозрения) и строго соблюдаться, причем не в интересах кого-либо персонально, а в интересах высшей справедливости. У Гесиода, например, законы установил бог Кронос, чтобы люди следовали справедливости, а не пожирали друг друга, как животные. Право – это политическая справедливость, считает Аристотель. «Право это наука о добром и справедливом», – вторит ему римский юрист Ульпиан.
Итак, уже в древности право ассоциировалось со справедливостью, равенством, свободой, порядком и противопоставлялось произволу как проявлению страстей. Правовая норма воспринималась как деперсонифицированное, абстрактное, всеобщее правило поведения. Но с точки зрения современного читателя, в античном правопонимании содержится существенный недостаток. Античный мир понимал свободу как состояние, противоположное рабству. Свободен тот, кто не подвержен чьей-либо произвольной власти, но таковым может быть только гражданин полиса, вне которого живут лишь боги и звери. Свобода присуща лишь гражданам полиса, и если раб принадлежит хозяину, то свободный – полису. Свобода мыслится как коллективная ценность. Гражданин свободен потому, что является частичкой свободного полиса. Поэтому не отдельный человек, а полис, как совокупность людей, является высшей ценностью. У древних греков и римлян не могло сложиться представление об автономности личности, об индивидуальной свободе. Понятие «персона» появляется только у поздних стоиков, да и то как этическая ценность. Свобода понималась как общий правопорядок, а права граждан являлись производными от него и не имели самостоятельного значения. Свобода – это состояние, противоположное анархии и хаосу. Право водворяет в обществе порядок, спокойствие, доверие между людьми. «При господстве хороших законов человек спокойно ложится спать и спокойно просыпается, не опасаясь неприятностей, вытекающих из политических перемен, и спокойно занимаясь своим каждодневным трудом». Но поскольку это возможно лишь в полисе, то полис, а не отдельный человек, является самоценностью. В отношении отдельного человека доминирует идея личного долга, а не личного права. Когда же античные мыслители обращаются к индивиду, к отдельному человеку, они приходят к отрицанию права и порядка, как, например, младшие софисты, или к идее «ухода» из общества, как эпикурейцы.
Вместе с тем в античном правопонимании был заключен огромный потенциал, который реализовывался на протяжении столетий, не исчерпал он себя и сегодня, поскольку не может исчерпать себя право.