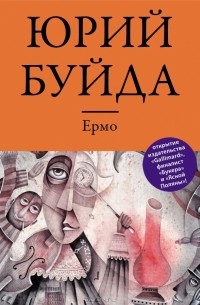Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом отворялись золотые ворота, украшенные роговыми пластинами с изображенными на них единорогами, звездами, драконами и прекрасными, как лошади, женщинами, и под многоголосое пенье фанфар, под звуки, стынущие у губ музыкантов серебряными цветами, из-под гулкой арки выезжал запряженный шестерней экипаж – огромная пузатая карета на высоких колесах, обросшая жемчужно сверкающей пылью, вьющейся, свисающей и волочащейся по мостовой, со стариком в лиловом бархате и черных мехах, в маске без рта, но с прорезями-полумесяцами для глаз, – его желтая пергаментная ладонь всплывала, как рыбка, из темной глубины кареты, чтобы благословить восхитительный призрак города, захваченного карнавалом, благословить всю эту сырость и кукольность, голубей на Пьяцце, узкие улочки-calli и ладончатые площади-campi, туристов, гондольеров, готовящихся к карнавальной регате, муранское стекло и смиренный ураган растительности в церкви Santa Maria della Salute, буйство цветного мрамора, змеевика и порфира, роскошных женщин в мужских костюмах от Николао и бесполых юнцов в многоэтажных дамских платьях с ромбовидными разрезами – «адскими окнами» – на крутых боках, полицейских и герольдов, сопровождавших карету на широкозадых ганноверских лошадях, стариков в брыжах и старух в масках-мотта, – его пергаментная ладонь, благословляла карнавал, людей, из которых никто не знал, куда направляется сверкающий пылью экипаж в сопровождении герольдов, облаченных в лазоревые ливреи с гербами на груди и спине…
Герольдов отпускали задолго до поворота к маленькой пристаньке, у которой ждал белый катер с полощущимся на ветру флагом, украшенным гербом – святой Георгий, белый конь, тонкое копье, извивающийся змий с уродливыми крылышками.
Катер доставлял старика на остров, где в доме за высокой оградой, сложенной из синеватых и темно-розовых валунов, его ждала безумная королева, согревающая костлявую задницу на парчовых подушках в кресле под балдахином, с которого свисали сотни стеклярусных нитей, унизанных крошечными колокольчиками, – при малейшем движении эта птичья клетка на колесах дрожала, звенела и пела, словно пытаясь перекрыть варварское tutti труб и чарующее пенье перламутровой лютни, встречающее мужа королевы – старика в лиловом бархате и черных мехах, в золотой безротой маске с прорезями-полумесяцами для татарских его глаз.
Два часа они молчали, разделенные белым столиком, на котором в узких бутылках стыло вино и в вазе пузырился виноград. Из широкого лилового рукава выезжала жестковатая трубка манжеты, сколотой платиновой запонкой с масонским символом, а из манжеты – костлявая желтая рука с ровно обрезанными голубоватыми ногтями, тянувшаяся к винограду.
Два часа они молчали на одном языке, молчали о былой любви, о сыне – о прошлом, которое, увы, давно стало их будущим.
Наконец являлся ее ангел-хранитель в белом халате и увозил больную в палату: пора было кушать кашку или глотать таблетки.
Старик возвращался на катер.
Его геометрически правильное лицо с прямыми бровями и гладко выбритым подбородком, выступавшим вперед и круглым, как бильярдный шар, слегка краснело на ветру. Автомобиль ждал его на плохо освещенной стоянке возле пристаньки. Швырнув маску на сиденье, он захлопывал дверцу и устало смеживал веки.
Неузнанный и вымотанный, он возвращался домой, чтобы поудобнее устроиться в долгом кресле – ноги заботливо укрыты толстым пледом, на столике под рукой бренди, печенье и минеральная вода – и вообразить, что он спит, что боль в распухших коленях мучает не его, а вон того старика в зеркале.
Бренди, печенье, минеральная вода – немного же нужно старику, чтобы пережить еще одну ночь, населенную призраками. Иногда ему казалось, что он спит, но в лучшем случае это был самообман, профессиональная игра воображения – бессмысленная, как шахматы или бритье, – бессмысленная, как Венеция, бредящая красотой и странно напоминающая о туманном Севере, где такой же город среди болот и каналов, со всадником-победоносцем, попирающим змия, бредит величием, – однажды под лучами солнца растают эти водопады, разлетится этот туман, уйдет кверху, и уйдут вместе с ним эти гнилые, склизлые города – сила, выродившаяся в красоту, – исчезнут, оставив по себе головную боль и тоску…»
В своей последней книге «Als Ob» («Как если бы») – а приведенная выше пространная цитата именно из нее – Джордж Ермо вновь обращается к излюбленной теме, которую он начал разрабатывать еще в первом своем произведении – романе «Лжец» («You story!»): иллюзорность, выморочность, межеумочность человеческого существования в мире, где сон и явь той же природы, что и человеческая жизнь. Писателя всегда занимала проблема соотношения вымысла и реальности, искусства и действительности, и хотя в последние годы он не раз говорил с нескрываемым раздражением, что «как багаж коммивояжера невозможно представить без зубной щетки и дюжины презервативов, так современную литературу – без зеркал, шахмат, лабиринтов, часов и сновидений», его самого игра ума притягивала с такой же силой, что и память сердца.
Объяснение этому факту исследователи ищут в биографии писателя, русского по происхождению, американца по воспитанию и, по его собственным словам, «венецианца скорее по мироощущению, нежели по месту жительства».
Главный герой романа «Лжец» – Юджин Форд, с детства прикованный к инвалидному креслу, лишен возможности активно участвовать в жизни и всю силу своего незаурядного творческого дара направляет на перевоссоздание своего внутреннего мира.
Тягучий, растительный, унылый быт захолустного американского городка, по глубокому убеждению Юджина, на самом деле таит такие бездны и высоты духа, такие загадки, сулит такие открытия, которые и не снились миллионным городам с их вывернутой наизнанку жизнью. Связи, которые устанавливает Юджин между событиями, изредка случающимися в этом Blind Alley (село Блины Съедены, если искать русский аналог), удивляют, смешат, а иногда и пугают обывателей. Подружка по детским играм, милая тихоня Эмили по окончании школы уезжает на поиски счастья в большой город, где устраивается сиделкой в богадельне. В письмах к Юджину она старательно живописует свою монотонную нью-йоркскую жизнь, маленькие радости (выиграла в лотерею пять долларов) и маленькие огорчения (украли туфли, которые она так берегла и надевала лишь однажды – на благотворительном балу у пожарных); она познакомилась с парнем, он предложил ей интересную и неплохо оплачиваемую работу… Письма от Эмили приходят все реже, они полны недоговоренностей и странных обмолвок, невнятной тоски и страстных обещаний – приехать, приехать, снова увидеть дорогого, единственного, любимого Юджина.
Постепенно читателю становится ясно, что девушка ведет двойную жизнь: днем ухаживает за немощными стариками в приюте, вечера посвящает проституции. Юджин же словно не замечает этого, повергая в ужас тетушку, которая преданно ухаживает за калекой и давно догадалась о том, что произошло с крошкой Эмили, чья душа, похоже, не выдержала самого страшного испытания, выпадающего человеку, – испытания обыденностью.
Перечитывая письма Эмили, Юджин замечает: «Каким мощным и богатым воображением нужно обладать, чтобы жить такой жизнью, как Эмили, а в письмах писать о ней так заурядно!» Бедняга Юджин твердо убежден в том, что Эмили похищена пиратами, более того, стала своей среди них, подругой главаря, подносящего ей на кончике кривой сабли вражеские фрегаты и покоренные приморские города. Она и сама участвует в абордажных боях, пользуясь самым страшным и неотразимым своим оружием – обнаженной грудью. С алым пиратским флагом в руках она первой спрыгивает на борт вражеского судна, разя направо и налево, – гроза и легенда Карибского моря. Ночью же, когда пиратский фрегат, мягко покачиваясь на серебристом лоне океана, мощно режет фосфоресцирующие воды, Эмили устраивается поудобнее в огромном кресле на палубе, под балдахином, когда-то принадлежавшим вице-королю, и, макая перо альбатроса в чернильницу, принимается за очередное письмо в пресную американскую глухомань, в то время как зверского вида индусы бережно обмахивают ее павлиньими опахалами, а ручной кальмар нежно обвивает щупальцами ее стройные нагие ноги, едва касаясь золотых яблок ее коленей…
Дебют молодого журналиста в качестве романиста был по достоинству оценен критиками, не оставившими камня на камне от его «претенциозного, вычурного произведения, в котором, впрочем, иногда встречаются куски, оставляющие слабую надежду на то, что когда-нибудь автор, может быть, распорядится своим дарованием более разумно».
К сожалению, рецензенты были правы, да впоследствии писатель и сам присоединился к критикам «Лжеца»: фантазии Юджина, быть может, и живописные сами по себе, кажутся стилистически неорганичными и слишком резко контрастируют с тщательно прописанными эпизодами, передающими дух американской провинции.
Автору не удалось найти верную интонацию, чтобы убедить читателя в неординарности Юджина, а потому явно искусственной оказывается и развязка романа: получив известие о смерти Эмили (она погибла в пьяной кабацкой драке, случайно напоровшись на нож), Юджин винит в ее гибели себя, поскольку именно он силой своего воображения накликал на бедную девушку такую смерть – гибель от удара пиратским ножом под левую грудь. Будучи не в силах справиться с языком, писатель поступает самым простым и самым проигрышным образом: заимствует стиль и лексику у полумертвых эпигонов романтизма.
Важно, однако, обратить внимание на те характеры, идеи и методы, которые впоследствии окажутся плодотворными для Ермо: во-первых, это образ Юджина, живущего лишь воображением; во-вторых, это смутно проступающая сквозь ткань ученической прозы идея иллюзорности бытия, игры, вымысла, способного поспорить с реальностью; наконец, любопытен, так сказать, методологический прием, к которому прибегает Юджин, комментируя письма Эмили: он не предполагает, а уверен, он знает, что жизнь Эмили именно такова, какой она кажется ему, – реальность фантастична, и в страхе перед непредсказуемой силой этой магии жизни люди пытаются снизить ее до себя, «обытовить», наконец, уничтожить. Грубо говоря, ложны не истории, которые рассказывает Юджин, – ложна сама история, реальность. Платоновская небесная Истина входит частями, деталями в иллюзорную действительность, которую принято считать реальностью, – каплями дождя, обрывком сновидения, шепотом или громом, но все никак не складывается в целостный, завершенный образ. Можно подумать, что Ермо читал Платона с томиком Уайтхеда в руках, – и в критике уже высказывалось подобное предположение, – хотя писатель никогда не скрывал своего отвращения к систематическим занятиям философией.
Сегодня резкость первых критиков «Лжеца» («наверное, о шизофрении можно написать и интереснее», «чтобы выдуть из этого безобразного кома прекрасную вазу, нужно быть гениальным стеклодувом») представляется нам чрезмерной: иногда между романом и читателем возникает вибрирующая связь – благодаря необъяснимым перекличкам, многочисленным эхо, неожиданным отражениям – лица в лице, реальности в вымысле и наоборот, слова в слове, – хотя в целом и сегодня уже никто не спорит с тем, что «Лжеца» трудно отнести к удачам писателя. Он еще не овладел магией ремесла, позволяющей из крысы, перца и лепестка розы сварить волшебный напиток искусства.
Впрочем, и критикам, и читателям вскоре стало не до изящной словесности: через семь месяцев после выхода в свет «Лжеца» началась Вторая мировая война, а появление единственной сочувственной рецензии, принадлежавшей Малькольму Спенсеру, совпало с японской бомбардировкой Пирл-Харбора, – о романе естественно и благополучно забыли.
Джордж Ермо, собственно Георгий Ермо-Николаев, родился 29 августа 1914 года в Санкт-Петербурге, еще не переименованном из патриотических побуждений в Петроград, но уже переживавшем потрясения Первой мировой войны. Родился в городе, который часто называют северной Венецией, и прожил почти полвека в Венеции настоящей, – так что мы с полным правом можем сказать, что тема зеркальности вошла сначала в его жизнь, а уж потом – в творчество.
Отец его, происходивший из старинной знатной семьи (а родовой чертой русского писателя является, по замечанию Пушкина, шестисотлетнее дворянство), был известным инженером и ученым. Вскоре после рождения сына ему по поручению правительства пришлось отправиться в Англию, где он представлял русские интересы, связанные с военной промышленностью, а именно с поставками для русской армии. Кроме того, Михаил Ермо-Николаев читал лекции в университете, консультировал коллег из британских военно-инженерных ведомств, не забывая при этом и о бизнесе: он был владельцем и совладельцем ряда строительных фирм, занимавшихся возведением мостов, дамб, плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений.
О матери Джорджа Ермо нам известно мало. Она происходила из захудалого дворянского рода Мотовиловых, получила приличное домашнее образование, готовилась стать актрисой, чему помешали два обстоятельства – расстроенное здоровье и случайная встреча с Михаилом Ермо-Николаевым на лекции Брюсова в университете Шанявского в Москве. По отзывам друзей и знакомых, Лидия Николаевна не была ни красавицей, ни умницей. Страстная, увлекающаяся натура, она отличалась склонностью к пустой мечтательности и приступами глубокой меланхолии, которые подчас завершались помещением больной в одну частную психиатрическую клинику. В конце концов молодая женщина, оставшаяся с сыном во взбаламученной войной и революцией России, не выдержала выпавших на ее долю испытаний. Выехав при содействии друзей в Финляндию, а оттуда – в Берлин, она слегла окончательно. Ермо-Николаев с трудом перевез ее и сына в Лондон, в богатую блумсберийскую квартиру, а вскоре перебрался с ребенком в Северо-Американские Соединенные Штаты. Лидия же Николаевна была оставлена в Англии, в клинике Распберри-Хилл, неподалеку от Брайдхеда, где и умерла в 1952 году, пережив мужа, скоропостижно скончавшегося пятью годами ранее. Отношения отца и матери – темная страница биографии Ермо.
Его первый биограф Федерик де Лонго утверждает, что Джордж Ермо встречался с Лидией Николаевной, нарочно приехав для этого в Англию, – но она не узнала его. Однако сам писатель уклонялся от прямых ответов, когда речь заходила о матери.
Полубезумная вспыльчивая мать Генри Слейтона из «Говорящих людей», «вечно не находящая себе места, в неряшливом халате с карманами, в которых непрестанно позвякивали пузырьки и флаконы с лекарствами – она принимала их не глядя, помногу, но без удовольствия, – с крупным белым носом, украшенным красными пятнышками от пенсне», – быть может, ее образ навеян детскими воспоминаниями о Лидии Николаевне, пугавшей малыша Белым Карликом и панически боявшейся зеркал: цыганка предсказала, что в зеркале ей суждено встретиться со своею смертью.
Джордж Ермо-Николаев не считал себя русским писателем, да и русским-то был, по его словам, «условным», хотя и был крещен по греческому обряду в джорджвиллской Свято-Владимирской церкви. В отличие от Бунина и Набокова, рядом с которыми его чаще всего ставят, он не вывез из России почти никаких воспоминаний и впечатлений – ни запаха горькой брянской полыни, полонившей межи, ни заупокойной графики церковных куполов на белесой плоскости зимних небес, ни неубранных крестцов ржей, ни первой любви, ни легкого дыхания, ни солнечного удара, ни сладкого детского страха перед полуденным выстрелом петропавловской пушки – словом, ничего такого, что могло бы называться его Россией. Три-четыре сохранившихся в памяти образа ну никак не складывались в картину: шелестящая и мятущаяся под ветром тень сирени на твердой от жары глинистой дорожке, ярко-серебряное блюдо озера с черной лодкой посередине и черными же елками вокруг, празднично-желтый цыпленок, осторожно обходящий тарелку с сизовато-алой малиной, огромный матушкин нос, оседланный пенсне и являвшийся Белым Карликом по его душу в страшных сновидениях… Вот, пожалуй, и все, если, конечно, Ермо-Николаев был искренен в беседах с биографами и журналистами.
У него была своя holy land, где всегда мощно высятся ильмы, где еще можно отыскать красоту, покой и определенность, где всегда высоки травы, недвижима стрелка часов на церкви и к чаю по-прежнему подают мед, – его Овстугом, его Гранчестером стал новостроенный городок Нью-Сэйлем в Новой Англии, куда он возвращался после университета, после войны в Испании, после краха первого брака, после поражения союзников во Франции и где приводил в порядок свои мысли и чувства, где, наконец, он проводил в последний путь отца, дядю и тетушку Лизавету Никитичну, заменившую ему мать.
Вот они все вместе, запечатленные фотографом-любителем на лужайке перед домом, за длинным белым столом. Снимок датируется весной 1938 года. Джордж уже вернулся из Испании, откуда почти год передавал репортажи для «Northern Atlantic Review», и в два с половиной месяца завершил работу над своим первым романом.
Крайний слева, щегольски одетый господин с геометрически правильным лицом и тонкими усиками, придающими ему фатоватый вид, с огромной сигарой в зубах, – Михаил Ермо-Николаев. Его имя называлось в ряду с именами Тимошенко, Зворыкина, Сикорского – гордостью американской науки и промышленности. Суховатый деловой человек, он избегал встреч с эмигрантами-компатриотами и только брезгливо морщился – на свой манер, одними губами, – если при нем заводили разговор о загадочной l’âme slave.
Рядом с ним, на стуле с высокой спинкой, его брат Николай Ермо-Николаев, генерал от кавалерии, энглизированный аристократ, который и после пятнадцатилетней жизни в САСШ предпочитал британский pavement американской pavement и, по шутливому замечанию брата, «вел родословную от коня святого Георгия, оправдывая семейный герб».
Далее на снимке – Лизавета Никитична Аблеухова, урожденная Ермо-Николаева, обладательница самой прямой спины в округе, – воспоминания об этой удивительной женщине, по его собственному признанию, согревали создателя образов Кэтрин Мур из «Путешествия в», тетушки О из «Смерти факира», других образов много переживших, но не сломленных женщин. Между нею и Джорджем – смеющаяся веснушчатая Софья Илецкая, вскоре ставшая женой молодого Ермо-Николаева, криво улыбающегося в объектив.
Даже на этом не очень четком снимке видно фамильное сходство Ермо: у всех у них удлиненные, почти цилиндрической формы головы, долготянутые лица с плоскими, параллельными друг дружке щеками и твердыми круглыми подбородками, угрожающе выступающими вперед. Мужчины поражают громоздкостью, контрастирующей с мягким женским взглядом их красивых лисьих глаз.
Ермо-старший был успешным бизнесменом, блестящим исследователем, интересным лектором. По приглашениям университетов он читал лекции студентам, по делам фирмы проводил большую часть времени в разъездах по Северной и Южной Америке, – так что мальчик редко видел отца.
Джордж рос в доме дяди, где его называли только Георгием: тетушка (а она и была настоящей хозяйкой и царицей в этом доме) не признавала ни американского имени, ни амикошонского «тыканья». Поместительный дом с английскими экономическими лестницами – девять дюймов подъем, одиннадцать – проступь, с почти идеально отлаженной жизнью, – русский дом без намека на матрешечную сусальность. Счастливое американское детство в настоящем русском доме. Свежее и чистое новоанглийское небо, цветение боярышника, клейкие птенцы в гнездах, тявканье лис, яблочный пирог и индейка, stars & stripes, Ли и Грант, взятие Ричмонда, первая сигарета и первая любовь, Рождество – и вместе с тем: пламенеющая икона с Георгием Победоносцем и змием, «Мой дядя самых честных правил», кустарный портсигар с двуглавым орлом на крышке, перстень с «еленевым» камнем, Борис и Глеб, Петр Великий, переход Суворова через Альпы, «Умом Россию не понять», Пасха…
Дядя был человеком строгим и даже, на сторонний взгляд, суховатым. Всегда истово выбритый, пахнущий кельнской водой, всегда державшийся прямо, не позволявший своим рукам ни одного лишнего движения, он был кумиром кадетов военной школы, где читал лекции и откуда за ним каждое утро присылали сначала пароконный экипаж, а потом – изящный автомобиль-ландо с красавцем негром за рулем. Весь досуг его был поглощен составлением истории кавалерии, хотя сам он говорил, что будущая война станет войной денег и моторов. Писал он ясно, твердым почерком без наклона и чиновничьих каллиграфических финтифлюшек, и любил повторять, что речь должна быть хорошо откормленной, но без сала. Домашним не возбранялось читать перебеленные куски рукописи, хранившейся в кожаной папке, но этим правом пользовался один Ермо-младший, запасавшийся печеньем и забиравшийся с ногами на огромный диван, прозывавшийся «господином Толстым», на котором так хорошо было сидеть, перекладывать листы большого формата со строго выстроенными строчками, в то время как теплый ветер колеблет желтые шторы в гостиной, выходившей окнами на жирно-зеленые, тянувшиеся чуть не до самого океана поля, там и сям прочерченные перелесками, изящные осы пляшут над блюдечком с медом, выставленным на подоконник, из кухни потягивает запахом пирога с черникой…
Джордж хрустел печеньем, следя за захватывающим приключением, в которое на протяжении тысячелетий были вовлечены миллионы людей и животных: Александр Македонский и Ганнибал, побеждавшие, пока у них было превосходство в коннице; поражение крестовых походов как следствие поражения тяжелой бронированной европейской кавалерии от маневренных азиатских всадников; шведский Густав Адольф, возродивший значение конников на поле боя; Фридрих Великий, создатель кавалерии – недосягаемого идеала; педанты от дрессуры, взявшиеся в середине девятнадцатого века ломать лошадь…
Скучнее были главы, посвященные Гражданской войне в России, хотя, судя по всему, именно ради этих страниц Николай Павлович и затеял свой труд. Он детально анализировал причины первых побед Деникина, обладавшего благодаря сильной кавалерии бесподобной маневренностью (у него на каждого пехотинца приходилось два кавалериста, тогда как у красных – один), и тактику и стратегию красных конармий, которыми так восхищался Пилсудский, – с кивком в американскую историю: генерал Стюарт блестяще продемонстрировал огромные возможности крупных кавалерийских масс, сполна использованные русскими большевиками на бескрайних плоских просторах России и Украины…
«Пока мужчины воюют или сочиняют великие романы, кто-то же должен подержать этот мир на своих плечах, сварить похлебку, сделать, наконец, так, чтобы вернувшийся домой мужчина нашел свои тапочки на привычном месте и кусок хлеба на столе. В конце концов все войны, революции, все потрясения затеваются лишь затем, чтобы тапочки оставались на привычном месте. Беда в том, что часто их надевают совсем другие люди…» – эти слова принадлежат Лизавете Никитичне Аблеуховой.
Ее мужа, известного кадетского деятеля, расстреляли в ЧК. То ли в издевку, то ли из причудливо понятого сострадания обезумевшей женщине выдали его одежду, изодранную пулями и хрустящую от высохшей крови.
Их сын служил в большевистском комиссариате, ведавшем народным просвещением, и щеголял в долгополой шинели с «разговорами» и вошедшем в моду матерчатом шлеме-«буденовке». Узнав о гибели отца, он тотчас примчался к матери, но она, парализованная горем, не смогла выйти к нему. Не прошло и часа, как за ним явились матросы с винтовками. Всеволод заперся в детской, и когда чекисты стали стрелять в дверь, ответил одним-единственным выстрелом – в себя.
Друзья и родственники помогли Лизавете Никитичне покинуть Россию. После полутора лег скитаний она добралась до Америки, где поселилась на толстовской ферме под Нью-Йорком. Там и нашли ее братья Ермо-Николаевы.
Она привезла с собою четыре чемодана, которые в пути ни разу не распаковывала. Открыла лишь в отведенной ей комнате нью-сэйлемского дома. Братья ожидали увидеть в чемоданах кузины что угодно, но только не это. В чемоданах были камзолы, мундиры, фраки, сюртуки, пиджаки, плащи, рубашки, принадлежавшие Ермо-Николаевым, – пробитые штыком французского гренадера под Лейпцигом, проколотые дуэльной шпагой, продырявленные турецкой пулей под Плевной, пахнущие духами, порохом, тюремной сыростью, случайно или нарочно хранившиеся двести лет в семейном гардеробе, – и завершали коллекцию хрустящая от высохшей крови визитка ее мужа и зияющая дырой с опаленными краями – от выстрела в упор – долгополая шинель с «разговорами», принадлежавшая ее сыну. Вот и все, что она с собой привезла. Если не считать воспоминаний, – гардероб, в котором не было ни одной дамской тряпки.
«Куда это повесить?» – сухо поинтересовалась она.
Братья молча переглянулись.
«Лиза… – наконец выдавил из себя Николай Павлович. – Ах, Лиза…»
Два раза в году коллекцию выносили на задний двор, чтобы освежить одежду, но запахи крови, пороха и духов не выветривались.
«Мадам Плюшкина» – так называла себя Лизавета Никитична. Несколько раз на дню она обходила дом в поисках беспорядка и сора. На поясе у нее висел долгий кисет, схваченный у горловины тесемкой и служивший вместилищем для всех тех пушинок и соринок, которые «мадам Плюшкина» обнаруживала при обходах.
За нею семенила старуха Ходня, издавна служившая в доме Ермо-Николаевых и последовавшая за Лизаветой Никитичной за границу. Маленькая, бесформенная, в платочке и «когдатошнем» платьишке, служившем ей и кожей и одёжей, она походила на состарившуюся и подобревшую крысу. Мечтала она лишь об одном – завести кота, серого какого-нибудь Ваську, который ловил бы мышей и мурлыкал у ног хозяйки, – но американские мыши не заводились, и приобретение кота все откладывалось.
Из других русских в их доме бывал только доктор Торбаев по прозвищу Лошадиная Фамилия. С Николаем Павловичем он был знаком по службе на Дальнем Востоке, где во время войны с японцами Ермо командовал бригадой. По субботам они с генералом играли в шахматы. Доктор словно бы нехотя закуривал толстую папиросу, набитую табаком с донником, – «И откуда вы только донник добываете?» – всякий раз спрашивала Лизавета Никитична, придвигая пепельницу, но доктор стряхивал пепел в блюдце, на косточки от вишневого варенья, задумчиво кивая кому-то и шевеля толстыми губами. Он был ветеринаром с обширной практикой. Женат был на красавице с порочным ртом, которую друзья между собой звали Ханшей: как и доктор, она была из татар, но рода довольно знатного.
Георгий Ермо-Николаев рос вне русской среды, такой значительной в тогдашних Берлине, Праге или Париже, где выходили русские журналы и книги, действовали разнообразные эмигрантские общества и союзы. Он не чувствовал себя эмигрантом. Он не мог сказать вслед за Набоковым: «Дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевернется», ибо у него просто не было Петербургской губернии.
Приезжая из колледжа, а потом из университета в дядин дом, он находил здесь уют, тепло и ласку, удобную комнату с письменным столом и чучелом совы в углу, поместительную ванную под стеклянным колпаком, с которого осенью сметали палую листву, а зимой – налипающий снег и через который так хорошо было, лежа в горячей воде, смотреть на звездное небо. Он возвращался к огромному колючему кактусу, невесть как оказавшемуся в этом доме и занимавшему всю середину гостиной: зимой на верхушку кактуса водружали звезду, и он несколько дней играл роль рождественской елки.
Это был его дом, где жили люди, рассказывавшие истории не менее странные и занятные, чем в книжках о героях фронтира, – истории о России, чужой стране. Там мужчины в надушенном белье погибали на эшафотах или на поле брани, покоряли сибирских индейцев, жили во дворцах, украшенных куполами-луковицами, римскими мраморами и очаровательными рабынями, молились суровому Богу, отдаленно напоминавшему Бога пуритан, а женщины с идеально прямыми спинами годами хранили верность своим жестоким мужьям, следуя за ними на каторгу, на бегу останавливали бешеных скифских коней и держали на плечах мир, пока мужчины искали точку опоры – лишь с одной ужасной целью: чтобы перевернуть этот мир…
Он любил этих людей, однако между ними была стена, хоть и совершенно прозрачная, но все-таки непроницаемая.
Когда Георгия мучила одышка и врачи терялись в догадках о причинах недомогания: сердце и легкие у мальчика были в порядке, – его укладывали в постель, по ночам он вскидывался, пытаясь сбросить гранитное одеяло, просыпался – рядом, на стуле с высокой спинкой, прямая, как ее речь, сидела Лизавета Никитична с привычным долгим кисетом у пояса и вязаньем на коленях. Прохлада ее сухой ладони успокаивала его, и мальчик засыпал до утра. Тетушка рассказывала, что первое слово, которое он произнес, едва появившись на свет, было на никому не ведомом языке. Говорил он на нем, пока его не крестили, и Джордж не понимал, шутила тетушка или нет.
«И что же это было за слово? И какой язык?»
«Не знаю, – просто отвечала она. – Возможно, вся ваша жизнь и уйдет на то, чтобы это понять».
В церкви они бывали лишь несколько раз в году, обязательно – на Пасху, Рождество и Троицу. Георгия забавляло недоумение взрослых, впервые увидевших скамьи в православном храме, где полагалось выстаивать службы, а вот теперь можно было – высиживать. Он с учтиво-скучливой миной вслушивался в речи бородатых священников, творивших литургию на малопонятном языке, – эти речи не трогали его, ничего не вызывая в памяти.
Ни отец, ни дядя с тетей не настаивали на том, чтобы мальчик непременно получил «русское образование». В детстве он читал Пушкина, Гарина-Михайловского, Некрасова, но по-настоящему русская культура привлекла его внимание лишь в конце сороковых – начале пятидесятых годов.
Новая Англия, New England – так в 1614 году английский капитан Дж. Смит предложил называть район на американском северо-востоке, охватив общим именем территорию штатов Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд с условным центром в Бостоне.
Но Новая Англия – не просто географическое или историческое понятие, это уникальное явление в духовной жизни Северной Америки. Поэтому когда мы говорим, что Георгий Ермо-Николаев, Джордж Ермо, получил образование в колледже Мильтона и в Гарварде, мы должны отдавать себе отчет в том, в каком котле варился дух будущего писателя. Эту похлебку заварили отцы-основатели и их последователи, ожесточавшие свои сердца к твари и любившие одного только Бога: они, видимо, полагали, что любовь к человеку является грехом самого Бога, а ад, несомненно, находится в самом горячем месте Господня сердца. В конце концов им удалось осуществить the Marriage of Heaven and Hell на землях Новой Англии, брак, связанный веревками, на которых в 1692 году фанатики в Сэйлеме повесили девятнадцать женщин, обвиненных в ведьмовстве.
Нью-Сэйлем Джорджа Ермо с его стандартными коттеджами и стерильно-унылой главной улицей в самом своем названии хранил память о том Сэйлеме-Салиме-Иерусалиме, который стал символом американского ада, Америки «Алой буквы» Готорна.
Георгий учился в том же колледже, что и Томас Стернз Элиот, и дышал воздухом, которым дышали Эмерсон, Торо, Мелвилл, Готорн и Эмили Дикинсон, сохранявшие глубинную, потаенную связь с особенностями мышления и восприятия, свойственными английским поэтам-метафизикам.
Здесь начинался творческий путь писателя, к опыту которого Ермо присматривался особенно внимательно, – Генри Джеймса. Сегодня мы вправе рассматривать в одном контексте «Письма Асперна» Джеймса, «Бербенк с бедекером, Блейштейн с сигарой» Элиота и «Als Ob» Ермо-Николаева – три произведения, посвященные Венеции и выросшие из одного источника. Другим писателем, оказавшим заметное влияние на Ермо, был, вне всякого сомнения, Натаниел Готорн. Как выразился однажды Элиот, Готорна и Джеймса объединяло «равнодушие к религиозной догме, сочетавшееся в то же время с исключительно глубоким постижением жизни духа», а также «обостренное чувство добра и зла». Это соображение важно и для понимания творчества Джорджа Ермо, автора «Путешествия в», «Убежища», «Второй смерти» и «Als Оb».
Пуританское мировосприятие, оказавшее заметное влияние на «условно православного» Джорджа Ермо, отличается сочетанием страсти и мысли при преобладании последней, сосредоточенностью на проблемах веры и полным доверием к минутам озарения, сухой и неожиданной проницательностью ума, страхом оказаться в плену вульгарности, которым страдали и Джеймс, и Элиот.
Это влияние выработало у Ермо отчетливое понимание трагических последствий одиночества и самоподавления, выразившееся в романах «Смерть факира», «Убежище» и «Вторая смерть», в которых строгая самодисциплина неожиданно нарушается вспышками пронзительной нежности.
Все эти черты напоминают о Данте, интерес к которому не оставлял Ермо всю жизнь. Это не случайно: ведь именно в Гарварде сложилась самая сильная в Америке дантеведческая школа, представленная именами Чарльза Э. Нортона, Чарльза Гренджента и Сантаяны (который, к слову сказать, посвятил особенностям пуританского мировоззрения свой знаменитый труд «Традиция благопристойности»).
Увлечение творчеством Данте отличает Ермо от Бунина и Набокова, которые явно не жаловали создателя «Божественной комедии»: «сухое бабье лицо» бунинского Данте перекликается с «востролицым Данте в купальном шлеме» у Набокова («Защита Лужина»). Оба, впрочем, плохо знали Данте.
Размышляя о том, что объединяет Данте, английских метафизиков и их последователей из Новой Англии, Элиот отметил особую тонкость восприятия, «непосредственно чувственное выражение мысли и преображение мысли в чувство», – иными словами, для всех них характерно отсутствие грани между жизнью и мыслью, житейским и духовным, интеллектуальным опытом, что особенно важно в случае с нашим героем.
«…Венеция – нет, она не дает счастья никому, но предчувствие счастья дарует – каждому. Это предчувствие не оставляло его всю жизнь, с той минуты, когда он впервые увидел этот странный город, эти дворцы, зыблющиеся на своих отражениях в текучих зеркалах, этот двусмысленный мир цвета и пятна, чуждый экстатической графике готики, нищей однозначности, мир, где не случайно встретились Восток и Запад, Европа и Византия, Рим и Греция, орфики и пифагорейцы, Василий Виссарион и Лоренцо Валла.
С радостно бьющимся сердцем он остановился в центре маленькой campi, перед тяжеловесным фасадом палаццо Сансеверино, обшарпанные стены которого будто вырастали из грязного канальчика, омывавшего их заросший буро-зеленой слизью высокий фундамент, – римская прививка к венецианской архитектуре: когда его строили и перестраивали, явно держали в голове то ли римский дворец Видони-Каффарелли, то ли флорентийское палаццо Пандольфини.
Дом из его сновидений.
Но почему он возник в его снах – он никогда не смог бы ответить на этот вопрос. В детстве он являлся ему по кусочкам – колонны, фронтоны, галереи, махристые водоросли, облепившие стены у среза воды, голуби над ангелами, украшавшими крышу…
Позднее ему удавалось – во сне – проникнуть внутрь, подняться по широкой лестнице с широкими белыми перилами, которые на концах скручивались в раковины-вазы с живыми пряными цветами в глубине, войти в залы с зализанными ангелочками a la Беллини, картинами Пальмы и Париса Бордоне, кьяроскуро Уго да Карпи, с кракелажными стеклами в дверях, выходящих на галерею, – а впереди ждало главное, и он знал, догадывался, что его ждет, отчего предчувствие счастья становилось сильнее и радостнее, – в ту дверь, теперь налево, еще одна дверь, наконец – она: в бело-розовом воздушном платье, вполоборота, на бегу, задыхающаяся, смеющаяся, с разметавшимися рыжеватыми волосами и удивленными голубыми глазищами – казалось, сейчас выступит из тяжелой золоченой рамы на вощеный паркет и, поправляя локон, быстро проговорит: «О, Джордж, пожалуйста, стакан оранжада – не то я умру! умру!» – и столько радости и счастья было в этом ее «умру!», что он только качал головой, схватив ее руки, и смотрел в глаза и на капельку пота между бровями, – и так оно и случилось, он нашел эту картину в палаццо Сансеверино и замер перед нею, удивленный, пораженный, задыхающийся.
«Но ведь ты же знал, что она тут, – укорил он себя, – ты даже знал, где именно она!»
«Это моя бабушка, – сказала хозяйка. – Ее звали…»
«Софи, – вырвалось у него. – Софья».
«Софья, – кивнула она. – Как вы догадались?»
Да он не догадывался – знал…» («Убежище»).
Рыжекудрая красавица с голубыми глазищами, которую герой романа «встречает» в Венеции запечатленной на портрете в доме возлюбленной, – Софья Илецкая, una gentile donna giovane e bella (Данте, конечно же, тут как тут!), юношеская любовь Ермо, ставшая его первой женой, хотя, разумеется, мы не забываем о дистанции между прототипом и художественным образом. О ней он вспоминал всю жизнь, уже не боясь впасть в банальность и искусственность («Даже в раю о ней сказали бы, что она прекрасна, как ангел» – выраженьице ничем не лучше набоковского «лошади, давным-давно переставшие удивляться достопримечательностям ада» или гоголевского «глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство»).
Лето он проводил в Нью-Сэйлеме, в дядином доме.
После университетской казармы так хорошо было отдаться ленивой неге, ненавязчивой тетушкиной заботе, бессистемному чтению и чаепитиям по вечерам, когда тускнеющее солнце плавится за ближайшим ильмовым боскетом.
Дядюшка – в домашней куртке с узкими бархатными лацканами, со стаканом виски в крепкой руке, покрытой тонкими рыжеватыми волосками и украшенной перстнем с «еленевым» камнем. Между ним и доктором Торбаевым – шахматная доска. Доктор задумчиво стряхивает пепел мимо пепельницы.
Тетушка с тонкой чашкой, в которой золотится пахучий чай, строго поглядывает поверх очков на Софью Илецкую, гостившую у них каждое лето, но на этот раз поразившую всех внезапной женственностью, вдруг созревшей красотой, пышными рыжими кудрями, голубыми глазищами, каллиграфической походкой, привлекавшей внимание к крутым бедрам, обтянутым бело-розовым шелком, и красивым кривым ногам, которые она ставила так твердо и бойко, словно ни на йоту не сомневалась в своем праве на восхищенное мужское внимание. Она приходилась Лизавете Никитичне дальней родственницей по мужу и сколько-то-юродной кузиной Георгию.
«Всяк русский точно знает, чего попросить у золотой рыбки, в которую верит безусловно, – бурчит доктор Торбаев, продолжая разговор, – но вот нормальная канализация для него – неразрешимая метафизическая проблема…»
Николай Павлович с улыбкой кивает, глядя на рыжекудрую девушку.
«Что ты читаешь? – Она наклоняется к Георгию. – О, Миллер!»
«Nil gratius protervo libro», – бормочет он, искоса глядя на ее руку, теребящую носовой платок.
«Поговорим по-русски? – Она вежливо улыбается. – Если не возражаешь…»
«Поговорить по-русски» в ее устах было равнозначно разговору обо всем русском, о России, о загадочной l’âme slave – все это волновало ее по-настоящему, сердечно, до заплетания языка. Выйдя за ворота усадебки и убедившись, что их никто не видит, они брались за руки и сворачивали к реке. Заглядывая ему в лицо, она тормошила его вопросами о Достоевском, о князе Игоре, судьба которого – метафора эмигрантской судьбы: оказавшись в комфортном плену у своих родственников, он не выдерживает оторванности от родины и бежит от половцев…
«Да какая метафора, – вяло возражал Георгий, – он узнал, что эти самые родственники, разозленные неудачным походом на Русь, возвращаются, чтобы убить его».
«Ты хочешь сказать, что причина побега князя – трусость?»
«В Средние века никто не упрекнул бы его в этом. Да ведь и твой любимый Достоевский говорил, что полюбить жизнь нужно прежде смысла ее».
Он восхищался выражением ее лица, когда она, немного задыхаясь, читала стихи: «Когда мы вернемся в Россию, о Гамлет восточный, когда?» Его сердце немело от предчувствия счастья.
На Троицу она зазвала его с собою в церковь, до которой было часа полтора-два езды. Предполагалось, что они переночуют у ее друзей и на следующий вечер вернутся домой. Они не проехали и половины пути, как начался дождь.
Софья была за рулем, и Георгий только зажмуривался, когда она на огромной скорости лихо срезала повороты, при этом фары то гасли, то пугающе ярко вспыхивали. Это был ливень, настоящее светопреставление с громом и молниями, выбеливающими лица и превращающими глаза и рты в черные провалы. Брезентовый верх машины вскоре покрылся изнутри крупными каплями, молодые люди в минуту промокли, замерзли и решили вернуться назад.
Не сбавляя скорости, Софья гнала машину по кипящему под дождем асфальту, пока их не снесло в неглубокую канаву. Часа полтора ушло на то, чтобы вытащить автомобиль на дорогу. Оба с ног до головы перемазались глиной. Наконец за стеной дождя вдруг открылась посыпанная гравием дорожка, ведущая к неосвещенному дому, глыбившемуся за живой изгородью, и Софья свернула во двор. Прижав к животу сумки и пригибаясь, они добежали до навеса, и тут-то до них дошло, что дом заброшен. На косо прибитой дощечке едва различалось выцветшее «sale».
Они проникли внутрь через черный ход. Софья крепко держала его руку и с лихорадочным смешком шептала: «А если тут прячутся бродяги… или какие-нибудь бандиты… куда? Я замерзла, как три черта. Наверх? Возьми хоть что-нибудь… хоть нож…»
У него слегка кружилась голова.
Скрип лестницы заглушал даже раскаты грома.
В одной из комнат были свалены подозрительно пахнущие комковатые матрацы, из которых, смеясь и толкаясь, они соорудили гнездо.
«Нет, нет, – зашептала она, – надо снять одежду… чтобы она к утру просохла… нельзя же так…»
Вспышки молний выхватывали из темноты голубоватые локти, плечи – и вдруг надвинулось ее меловое лицо с черными провалами глаз, он прижался губами к ее губам, она выдохнула: «А ты?» – он торопливо освободился от мокрой одежды, то и дело натыкаясь на ее горячее тело и со сладким ужасом пытаясь угадать, чего он коснулся, – «Я не умею, – сдавленно сказал он. – Прости». «Я тоже не умею, – проговорила она так, словно у нее болели зубы. – Так?»
Утром он проснулся потный, задыхающийся от жары и неприятного запаха, шедшего от матрацев.
Солнце заливало пыльную комнату со сломанным стулом в углу и обрывком электрического провода под потолком.
Софья стояла у окна.
Он бесстыдно уставился на ее грудь и бедра и весь похолодел от пронзившего вдруг его болезненного ощущения, которое осталось только – назвать.
Она прищурившись посмотрела на него.
«Воображаю, как от нас пахнет…»
Наморщила нос.
Сглотнув несколько раз, он наконец обрел дар речи: «Посиди со мной…»
Никогда ему не было так хорошо.
«И мне тоже, – призналась она, когда все закончилось и только ее выпуклый живот еще мелко вздрагивал. – Я, наверное, бесстыжая шлюха. Разве пристало женщине испытывать такое блаженство?»
В голове у него крутились обрывки каких-то фраз о пуританском православии, об Эстер Прин и Иоанне Златоусте, который в глубинах своего восхищения прекрасным женским телом почерпнул силы для осуждения его, – но он промолчал, водя пальцем по ее плечу и с трудом выравнивая дыхание: он был слишком переполнен чувствами, чтобы осилить еще и слова.
В ее сумке оказались бутерброды в станиолевой бумаге и бинокль, который она зачем-то брала с собой всякий раз, когда садилась за руль автомобиля. Выглянув наконец в окно, он приложил к глазам бинокль и рассмеялся:
«Ты уже поняла, где мы?»
Касаясь его спины сосками, она взяла бинокль, положила подбородок на его плечо. «Господи, это же Ходня…»
Конечно, этот заброшенный дом они видели каждый день из своих окон и так привыкли к нему, что уже и внимания не обращали, хотя и был он чем-то вроде местной достопримечательности: все-таки единственное в новостроенном городке здание без хозяев.
С высоты второго этажа был хорошо виден двор, Ходня, склонившаяся над кустом шиповника. По галерее неторопливо, с заложенными за спину руками прошелся дядя с дымом, выбивавшимся из-за правого уха, – курил сигару. Вот он опустился в камышовое кресло и замер, глядя перед собою на ильмы и ярко-зеленые поля («Почему ильмы да ильмы? – возмущалась Софья. – Это же вязы. Или карагачи»).
В окне мелькнул силуэт Лизаветы Никитичны, которую никому и никогда не удавалось застать в затрапезе: казалось, она и спит гладко причесанная, с обтянутым сеточкой-паутинкой пучком волос на затылке, с долгим кисетом на поясе, с пестрыми лапками, пахнущими земляничным мылом, которые было так приятно целовать по утрам, – страж, всегда готовый если и не к бою, так к поражению, которое стало уделом семьи, – но никакое самое сокрушительное поражение не заставит ее изменить своим правилам: в семь утра чай, волосы причесаны и спрятаны под золотящуюся тонкую сеточку, руки пахнут земляничным мылом, взгляд ясен и тверд – и только поэтому поражение не становится гибелью…
Он много раз возвращался к этому утру, вспоминая его в письмах, дневниках, запечатлев его на тех волнующих страницах романа «Путешествие в», где Джереми и Лиз оказываются вдвоем в пустующем доме и со странным чувством смотрят на высящийся за забором родной дом, захваченный убийцами.
В то утро он испытал сложную гамму чувств, наблюдая за жизнью в соседнем доме.
Он знал этих людей, догадывался, о чем они могли говорить в час пополудни и за вечерним чаем, как шепчет молитвы и кладет поклоны перед иконкой в своей комнате Ходня, – но что-то неуловимое, мучительно непостижимое отделяло его от их мира, где он был одновременно и своим – и всего-навсего наблюдателем, пусть и заинтересованным, близким, понимающим. Что-то ускользало от него.
«У нас одна речь, но молчим мы на разных языках», – с грустью роняет Джереми в финале романа.
Эти слова мог бы повторить и Ермо.
Ему было хорошо, он был влюблен горячо и счастливо, – и в то же время он испытывал беспричинную тоску, как человек, утративший что-то бесконечно дорогое, единственное, неповторимое. Или, точнее, – ушедший от одного берега и так и не приставший к другому.
Господин Между – так он иногда называл себя впоследствии, – но мысль эта пришла к нему и поразила в самое сердце именно тем утром, когда они, он и Софья, стояли у окна в заброшенном доме.
«Знаешь, – сказал он, – наш брак будет называться ортокузенным».
«Ох уж эти троюродные!» – с улыбкой процитировала она по памяти Толстого.
Они поженились почти через восемь лет, незадолго до Пирл-Харбора. А тогда, по возвращении в университет, он получил от нее письмо, которым она известила Георгия о скором своем замужестве. Спустя месяц она стала женой Ти Пи Левинсона.
Эта страница биографии Джорджа Ермо-Николаева и до сих пор остается непроясненной. Первый биограф Ермо, Федерик де Лонго, сводит все к «юношескому самообману страсти»: встретились два красивых молодых человека, на мгновение их ослепила страсть, – и расстались, поскольку у каждого была своя жизнь, со своими проблемами и обязательствами. Свое довольно легковесное предположение де Лонго основывает на одной фразе из письма Софьи Илецкой, в то время уже миссис Левинсон: «Я не могла не сделать этой глупости, как ни пошло это звучит, – считай, что у меня были обязательства перед Ти Пи».
Алан Ситковски в своей книге «Ермо: история любви» предлагает версию, достойную пера Эжена Сю: тут и таинственное «приключение» Софьи, грозившее уничтожить ее репутацию, от чего ее спасает мистер Левинсон, требующий взамен ее руки и сердца; тут и страхи и переживания несчастной девушки, попавшей в паучью сеть, которая вместе с нею накрыла и ее бедную мать и младшую сестру, еле-еле сводящих концы с концами; тут и прекрасный юноша, которому она отдается, чтобы тем самым «переступить» через себя и со спокойной душой пойти под венец с нелюбимым… Словом, Алан Ситковски увлеченно фантазирует на тему романа Ермо «Путешествие в», подставляя фигуры, видоизменяя мотивы и, наконец, превращая трагедию в пошловатую мелодраму.
Ну а те, кому довелось встречаться с Ти Пи – рослым очкастым толстяком с добродушной усмешкой, вечно теряющим очки, ключи, платки и бумажник, – могут сами судить о соответствии этого недотепистого увальня той злодейской роли, которую ему приписал Ситковски.
В биографии Софьи Илецкой и впрямь встречаются темные пятна. Более того, известно, что ее младшая сестра Анна какое-то время была девушкой по вызову, причем недоброжелатели – а их у Ермо не меньше, чем у любого известного человека, – утверждают, что мать сыграла во всей этой истории самую неблаговидную роль. О неприятном и даже опасном «приключении», которое каким-то образом действительно связано с именем Ти Пи Левинсона, сама Софья однажды обмолвилась в письме к Полине Стаффорд.
Увы, нам доступно лишь ощущение смутной тревоги, неуловимо присутствующей в этой ситуации, – но мы не располагаем фактами, которые позволили бы выстраивать правдоподобные гипотезы.
Достоверно известно одно: Джордж Ермо любил Софью Илецкую, а она – его.
Внешне жизнь Ермо не изменилась.
Он был прилежным студентом, а потом – подающим надежды молодым преподавателем, которому прочили успешную академическую карьеру. Его доклад о современнике Данте и последователе Гвиттоне д’Ареццо – поэте из Лукки Бонаджунте – был одобрительно встречен авторитетными учеными. Ермо тщательно прослеживает различия между реальным Бонаджунтой (Bonagiunta da Lucca), который яростно нападал на стильновистов и самого Данте, обвиняя их в зауми и чрезмерном увлечении формой (по его мнению, они traier canson per forsa di scrittura – сочиняют стихи с помощью одного стиля, – понимая стиль в духе Средневековья – как внеличную и чисто формальную категорию), и тем Бонаджунтой, которого Данте встречает в «Чистилище» (песнь XXIV) и для которого стиль – категория идеологически содержательная; именно ему, этому Бонаджунте, Данте доверяет определить эстетическую сущность нового направления и дать ему имя – dolce stile nuovo, сохранившееся до наших дней, более того, по существу – декларировать принципиально новый этап в развитии культуры, символом и знаменем которого был Данте.
Эти ученые изыскания нашего героя вполне заслуживали бы почетного места на тех полках, куда биографы заглядывают с нескрываемой скукой, если бы не одно обстоятельство: зрелый Ермо не раз прибегал к выражению traier canson per forsa di scrittura (или к его интерпретационному аналогу, предложенному в 1951 году Карло Салинари: far poesie soltanto con uno sforza di stile), когда речь заходила о таких писателях, как Бунин или Набоков: «Вне России их творчество ушло в стиль, держится только стилем и даже может быть сведено к одному стилю. Впрочем, их жизнь – тоже».
Что ж, это ведь только в школьных учебниках литераторы дружат семьями: еще доктор Джонсон заметил, что ни одному писателю не хочется быть чем-то обязанным своим современникам.
Академические штудии перемежались поездками в Нью-Сэйлем, обитатели которого отмечали про себя, как быстро повзрослел этот громоздкий юноша с упрямым подбородком. Дневниковые записи тех лет ничем не выдают душевного состояния будущего писателя. Опубликованные впоследствии вместе с очерковыми заметками и эссе в книге «Лес, кишащий зверями», они дают лишь приблизительное представление о том, что происходило в его душе, и надо обладать буйным воображением, чтобы поймать в этом лесу хоть одного зверя, терзавшего душу писателя.
Он довольно холодно размышляет об особенностях русского типа мышления, жизни, творчества. Ну, например: «Рим, выпеченный в Греции, – родина всякого писателя, кроме русского». Или: «Русские вряд ли согласились бы с утверждением Сократа, Платона, Климента Александрийского, Ансельма Кентерберийского – с утверждением, лежащим в основании цивилизации, – что именно знание и есть мораль, и есть вечное спасение». Наконец: «Искусство не является функцией совести».
Он писал каждый день, заполняя тетради своим четким, как у дяди, почерком. Сотни страниц о Данте, Аквинате, Шекспире, Готорне, Генри Джеймсе, Мелвилле, об отце, дяде, Лизавете Никитичне, о вязах на лужайке перед домом и поездке в церковь на пасхальную службу («Я по-американски люблю Рождество и по-русски – Пасху», – быть может, единственное тогдашнее признание двойственности его положения), но ни слова – о Софье, которая по-прежнему несколько раз в году писала Лизавете Никитичне, справляясь о Джордже.
Тем неожиданнее было его решение отправиться в воюющую Испанию с корреспондентским удостоверением «Northern Atlantic Review», которое ему устроили университетские друзья.
Исследователи недаром называют ту эпоху «красными тридцатыми»: левые идеи захватили не только европейскую, но и американскую интеллигенцию, затронув в какой-то мере даже Фолкнера и О’Нила. Война с фашизмом в Испании вызвала в Америке волну энтузиазма.
Однако не подлежит сомнению тот факт, что Джордж Ермо и в те годы был политически консервативным человеком, которого трудно заподозрить в сочувствии к левым.
К нему вполне приложимо высказывание Фрэнсиса Маттиссена об Элиоте, отдававшем себе отчет в том, что «свойственная XIX веку подмена Воплощения Обожествлением, идеей о том, что, реализуя заложенные в нем возможности, человек сам становится Богом, с неизбежностью ведет от преклонения перед героями к преклонению перед диктатурой».
Демократическому консерватизму Ермо было ближе убеждение Уитмена в том, что «человек становится свободным, не проявляя себя в противостоянии обществу, но проявляя себя посредством своей деятельности в обществе».
У Ермо не было даже академического интереса к идеям испанских анархистов или русских коммунистов – «он бросился в гущу людских страданий, туда, где испытывались на прочность такие неизменные для него ценности, как свобода, честь, достоинство человека, способного не дрогнуть перед лицом смерти».
Оставим пафос на совести Алана Ситковски, которому, однако, удалось схватить суть: Ермо интересовали люди, волею обстоятельств оказавшиеся в ситуации тяжелейшего выбора. Рискнем также предположить, что решение о поездке в Испанию, помимо всего прочего, вызвано и смутным предощущением писательского призвания. Ермо нуждался во впечатлениях, в опыте более широком, чем он мог почерпнуть в воспоминаниях о детстве, сердечной неудаче и великолепной библиотеке Гарварда. Впрочем, Алан Ситковски и тут не упускает своего: по его убеждению, испанская «авантюра» Ермо сродни жесту отчаяния средневекового рыцаря, который ищет забвения в боях, лелея надежду подвигами вернуть расположение дамы сердца.
Почти год он безвыездно провел в Испании. Этот период его жизни обстоятельно документирован, а недавно собраны под одной обложкой все его испанские репортажи, прекрасно проиллюстрированные (на фотографиях – Ермо и Андре Мальро, Ермо и Михаил Кольцов, Ермо и Равель с равелем – трехструнной скрипкой, Ермо в баскском берете, с биноклем на груди – ох уж эти бинокли!) и откомментированные Луисом Мариторнесом и Джоном Ли. Именно тогда – случайной встречей с Луисом Бунюэлем, а потом сотрудничеством с Йорисом Ивенсом – началось его приобщение к кинематографу.
В Мадриде его нашло письмо от Софьи, содержание которого нам неизвестно.
В тот же день он телеграфировал в Америку о своем немедленном возвращении.
Софья ждала его в нью-сэйлемском доме, осаждаемом репортерами скандальной хроники.
По пути домой из газет Ермо узнал, что ее муж был убит в пригороде Чикаго при довольно загадочных обстоятельствах. Это случилось в поместье некоего Манетти, одного из главарей детройтской мафии, поэтому пресса с наслаждением судила и рядила о крупном бизнесмене, то ли павшем жертвой организованной преступности, то ли павшем жертвой своей причастности к организованной преступности. В момент убийства его жена находилась рядом, что дало повод для фантазий. «Детройт сан» договорилась до того, что миссис Левинсон сама убила мужа «в припадке самозащиты» (именно так!). Но потребителям криминального чтива оказалась больше по душе история, рассказанная «Чикаго индепендент», – о несчастной женщине, которая, случайно оступившись в юности, была вынуждена жить с шантажировавшим ее боссом мафии; благодаря искусно сплетенной интриге ей удалось, попросту говоря, «подставить» своего муженька-мерзавца, то есть скомпрометировать в глазах дружков-бандитов, которые в конце концов и свели с ним счеты…
Бегство Софьи в Нью-Сэйлем, к русским родственникам, а затем и поспешный брак с Джорджем Ермо подлили масла в огонь.
«Я не удивлюсь, если она и впрямь окажется причастной к гибели моего Ти, – заявила мать покойного. – У меня есть доказательства, что эта мерзавка тайком встречалась со своим русским дружком. Вообразите, они с порога бросались в объятия, даже не убедившись, что за ними не подглядывают, и только наутро эта безумная эротоманка спохватывалась, обнаружив, что забыла снять лифчик!»
Последняя деталь не прибавила сторонников безутешной матери и ее недотепистому сынку: тогдашняя Америка если и говорила о нижнем белье, то с жеманством и экивоками, что называется, на языке цветов.
Правда здесь только в том, что Левинсон действительно был убит, Софья стала свободной и вскоре вышла замуж за Георгия Ермо-Николаева.
Первой их большой «семейной акцией» стала покупка дома в Нью-Сэйлеме – того самого дома, где они провели незабываемую ночь, как пишут в дамских романах. Рабочий кабинет устроили в комнате с окнами на жизнь дяди и Лизаветы Никитичны.
Те, кому довелось встречаться с молодыми Ермо в то время, вспоминают, что и Софья, и Джордж выглядели бесконечно счастливыми. Даже провал романа «Лжец», казалось, не причинил Джорджу никаких страданий. Рядом была Софья, которая вела себя так, словно и не было между ними восьми лет разлуки, жизни порознь, и какой жизни!.. Непохоже было, чтобы и Джорджа терзали воспоминания об этих странных годах, – память о них станет проклятьем после смерти Софьи, случившейся в конце декабря 1941 года.
С началом Второй мировой войны Джордж отправляется в Европу и оказывается свидетелем поражения Бельгии и Франции. Его репортажи о событиях весны 1940 года с содроганием читала вся Америка. Их печатали крупнейшие американские газеты, о них очень тепло отозвался Хемингуэй, вспомнивший об их совместной работе в Испании.
Джордж стал знаменит.
Софья уговаривает его приняться за роман, в котором он мог бы «разделаться» со своими военными впечатлениями: «Война и мир», «Пармская обитель», «Алый знак доблести», «Смерть героя» – трубы зовут, – но Ермо колеблется. Наконец в начале февраля 1941-го он набрасывает несколько эпизодов, которые впоследствии вошли в роман «Смерть факира» (главы «Ночной Париж», «Дюнкерк», «Окоп»). Работа идет медленно, с паузами: материал слишком горяч…
21 декабря 1941 года, возвращаясь из Бостона, где она была по издательским делам мужа, Софья на огромной скорости врезалась во встречный грузовик и мгновенно скончалась. Ее с трудом извлекли из-под обломков машины (это был подаренный Михаилом Ермо восьмицилиндровый «Паккард» с фитильным зажиганием – она любила автомобили и могла оценить такой подарок).
Из морга Джорджу выдали сверток – не на что было туфли надеть.
Софью Илецкую-Ермо похоронили на Джорджвиллском православном кладбище.
По узкому каналу, отливавшему розовым и голубым, медленно прополз зачуханный катерок с трепыхающимся на мачте клетчатым флажком. К едва ощутимому гнилостному духу воды примешался запах отработанной солярки.
Старик свернул за угол – отсюда открывался вид на кампанилу Святого Марка, высившуюся над сплошным полем из крыш.
Высоко в небе прострекотал завалившийся набок полицейский вертолет, направлявшийся к Новой набережной.
Старик отвернулся от холодного ветра и неторопливо зашагал по крытой галерее назад, к двустворчатой двери, поближе к теплу уютной столовой, где его уже ждал завтрак – простокваша, виноград и кофе без кофеина.
Сбрасывая на руки Фрэнку шерстяной плащ, приглаживая волосы перед зеркалом в туалетной комнате и поправляя галстук, он все пытался вспомнить, как же называется этот чертов виноград, который он ест каждое утро… Ганнибал?
– Треббьяно, сэр, – напомнил Фрэнк, когда старик, прежде чем отправить виноградину в рот, уставился на нее недоуменным взглядом. – Приток По, сэр.
Дважды в неделю дворец Сансеверино открывался для туристов – для фотоаппаратов и видеокамер, американских старух с великолепными зубами и слившихся в бесполых объятиях юных созданий, – «посмотрите налево, посмотрите направо». Дни, часы, минуты экскурсий, их режим и маршруты были строжайше оговорены, и за этим бдительно следили адвокаты Ермо и Сансеверино, оберегавшие покой великого писателя и многочисленных призраков, издревле обосновавшихся в этом доме. Туристам показывали Тинторетто и да Карпи, Беллини и Бордоне; «осторожнее» – и их вводили в помпезный кабинет первого мужа синьоры ди Сансеверино, национального героя Италии, «итальянского Шиндлера», – футбольное поле с громадным письменным столом, моделями парусников и океанских лайнеров в стеклянных кубах, освещенных галогеновыми лампами, с внушающими скучливое почтение книжными шкафами и высоченными портретами предков в сюртуках с лентами и звездами, иногда об руку с дамами в жемчужно-серых шляпах, вскинутых вуальках, с резко очерченными породистыми скулами и в меру накрашенными губами, иногда с мастифом или далматином у ног.
Старик не любил этот кабинет. Всякий раз, случайно забредая в один из этих огромных залов, – а во дворце их было три, – он не мог заставить себя стоять или сидеть в центре. Да, туда он попадал только случайно. Он давно протоптал «тропинки» в этом доме, иногдa казавшемся ему бесконечным, сложноразветвленным, запутанным, как лабиринт, проеденным некими искусными червями вдоль и поперек, вверх и вниз, вкось и вкривь, – от головокружения спасало чувство центра, которым был он сам, где бы ни находился, – всему остальному вольно было пребывать в хаотическом состоянии, за гранью числа и меры, там, где слово, удерживающее предметы в послушании человеку, уже распадалось на атомы, рассеивалось в разреженном пространстве, застревало в сгущающейся вечности.
Спальня, столовая, кабинет, он же маленькая картинная галерея и библиотека, – вот места, где он бывал ежедневно. С каждым годом он занимал все меньше места в этом доме. В свой кабинет он мало-помалу перетащил все, что представляло для него какую-то ценность. Единственное, что осталось на своем месте, – чаша. Чаша Дандоло – под таким названием она числилась в каталоге Джелли. Ради нее старик отважно проделывал неблизкий путь – спускался во второй этаж, пересекал бескрайнее поле паркета, над которым, в вышине, угрожающе нависала сужающаяся люстрища с массой хрустальных висюлек, и уединялся в комнатке с высоким потолком, где вот уже сто – или двести, или триста – лет на столике перед старинным зеркалом стояла чаша Дандоло. Свидания с нею бывали не каждый день. Иногда, уже дойдя до двери заветной комнатки, он вдруг передумывал и возвращался в кабинет. Что-то должно было случиться, чтобы час-другой наедине с чашей стал полно прожитым временем.
«Вещи нужно проживать так же тщательно, как мы пережевываем пищу, – лишь тогда они станут необходимой частью человеческой жизни, а не банальным антуражем, скрашивающим путешествие в ад» – эти слова произносит герой «Als Ob», явный alter ego Георгия Ермо-Николаева. Чашу он проживал трепетно, жадно, эгоистично. Он смаковал ее, как хороший коньяк или женщину.
Туристов не водили в ту часть дома, где находилась «светелка» хозяина – так он называл свой кабинет-галерею-библиотеку, где обычно уединялся после завтрака.
Фрэнк приносил сюда чашку очень крепкого кофе – с кофеином, разумеется, – чтобы чарующий и запретный запах смешался с запахом старых книг и дымившейся в пепельнице сигары, к которой старик не прикасался и которую для него раскуривал тот же Фрэнк. Да-да, только – обонять, жадно вбирать запахи чуткими ноздрями, не смея пригубить или затянуться, – все, что ему оставалось.
Книги, картины, запахи, воспоминания… Жизнь Als Ob – ничем не хуже иной жизни.
Картин было немного. Стоило покинуть кресло, где он обычно читал – спиной к окну, к висевшим в простенках гравюрам с видами Венеции, – и перейти на маленький кожаный диван, на котором так приятно сидеть развалясь, – и все полотна оказывались перед глазами.
Чуть в стороне – икона с чудом Георгия Храброго о змие. Святой покровитель рода, чьи деяния известны более Богу, чем людям, как выразился папа Геласий. Джерджис арабов, Кедер мусульман, Егорий русских. Прянувший белый конь, плоский и безротый, с глазом, напоминающим немытую сливу. Всадник в лазоревом, золотом и зеленом. Рыжевато-каштановые волосы, отстраненно-задумчивый взор, тонкий греческий нос, женственные губы, мягкий и чуть отвислый подбородок. Крохотная правая ножка-уродка. Маленькие ручки – левой натягивает повод, правой – вытягивает из пасти змия нитевидное копье. Волнисто-чешуйчатый хвост змия кончиком еще в пещере. Страшные когти и жалкие перепончатые крылышки доисторического аэроплана. Красивый и печальный женский глаз на лисьей морде. Безвольно разинутая пасть с узким языком-пламенем. Схватка добра и зла на фоне алого неба русской истории.
Первый в ряду портретов – парсуна князя Данилы Романовича Ермо-Николаева, выполненная на иконной доске. Грузный мужчина в меховой шапке и шитой золотом одежде. Голубоватые белки выкаченных глаз, светло-коричневая радужка, красная точка в слезнице. Друг князя Голицына и царевны Софьи, астролог, чернокнижник, поэт, в девяностолетнем возрасте – один из вдохновителей стрелецкого мятежа против Петра Великого. Его старший сын Василий написал книгу «Проскинитарий, хождение старца Максима Ерма во Иерусалим и в прочие святые места для описания святых мест и греческих церковных чинов», которая стала оружием в руках старообрядцев в борьбе с никонианами. Собрав полторы тысячи единоверцев, заперся в лесном скиту и сжегся с ними при приближении царских войск, дабы не даться в руки дьявола в образе великого кота – Петра Великого.
Его сын Андрей – парадокс эпохи – стал сенатором, дипломатом, участвовал в подготовке Нейштадтского мира со Швецией, у гроба Петра стоял по левую руку – в черном панцире, с обнаженным мечом в руках.
Правнук этого Ермо – друг Пестеля, любимец Кутузова, под Бородином шесть раз лично водил свой полк в штыковую атаку, дважды ранен под Лейпцигом – руководил арестами декабристов. Но их портреты не сохранились. Только мундир лейпцигского героя – в гардеробе Лизаветы Никитичны.
Три портрета удалось вывезти дяде.
На первом во весь рост изображен молодой человек в широкополой шляпе, с тросточкой, обвитой цветущими розами. Насмешливый взгляд устремлен вдаль, поверх зрителя. Хлыщ с шелковой ленточкой на жилете: во времена Теофиля Готье среди парижских щеголей считалось хорошим тоном носить на такой тесемке в жилетном кармашке квитанцию из ломбарда, где были заложены часы. Умер в больнице для бедных, промотав все свое состояние, но наотрез отказался воспользоваться помощью родственников, для чего нужно было вернуться в Россию: «Лучше быть нищим в жизни, чем боярином – в сновидениях».
Его сосед по галерее – лейб-гвардии полковник граф Ермо-Николаев, резидент русской разведки во Франции времен Наполеона Бонапарта. Любимец парижского света. Несколько лет он умело водил за нос ищеек Фуше. Однажды, возвращаясь с приема у Жозефины, он спас из горящего дома молодую женщину и ее крошечную дочку: в блестящем придворном мундире, с лентами и орденами, в золотых эполетах – не раздумывая ринулся в пламя и вынырнул невредимым с очаровательной дамой в пеньюаре на руках. Лев. Накануне войны двенадцатого года ему пришлось спешно покинуть Париж. В предотъездной суматохе он сжег все свои бумаги – камин был до дымохода завален пеплом, но одно письмо забилось под ковер – оно-то и вывело французскую полицию на осведомителей Ермо при дворе и в военном ведомстве. По возвращении в Петербург он был обласкан, пожалован генералом и графским титулом.
Наконец – сенатор Ермо-Николаев, усмиритель Западного края, – вот он, сухой старчище с геометрически правильным лицом, подпертым высоким шитым воротником, с лентой и звездой Андрея Первозванного. Удалившись на покой, взялся переписывать родословную: отрицая татарское происхождение семьи, возводил историю рода к одному из семидесяти апостолов – по его мнению, тот был далматинским епископом (хотя далматинского епископа звали Ермом; апостол же, ученик Павла, был епископом в Филиппополе). Как однажды выразился дядя, сенатор «ерманулся» на истории семьи.
Брат сенатора стал министром юстиции, в память от него осталась деревянная шишечка, украшавшая лестницу в загородном имении и сбитая выстрелом террориста, целившего в министра.
По прихоти судьбы старик носил то же имя, что и эти мужчины, взиравшие на него со стены. Он втягивал запахи кофе и табака, уже не смея ни пригубить, ни затянуться, – их судьбы были для него сродни этим запахам. Они были портретами, всего лишь изображениями, которые не отбрасывали тени в его жизнь.
Отдельно от них, между книжными шкафами, запертая в нелепую тяжелую золоченую раму, жила Софья – в бело-розовом воздушном платье, полуобернувшаяся на бегу, задыхающаяся, с разметавшимися рыжеватыми волосами и удивленными голубыми глазищами – казалось, вот-вот спрыгнет на пол и быстро-быстро проговорит: «О, Джордж, пожалуйста, стакан оранжада – не то я умру! умру!»
Давным-давно он велел перенести этот портрет в свой кабинет – из огромного холодного зала с темными углами, где она мерзла в компании с дамами, чьи резко очерченные породистые скулы и безжизненные губы навевали мысли о рыбной лавке.
Жизнь – это картины, шишечка, запахи, тетушкин гардероб, тень сирени, мятущаяся под ветром, бело-розовая женщина с рыжими кудрями и красивыми кривыми ногами, с задыхающимся голосом: «Умру! умру!..»
Тени, звуки и отзвуки, призраки, видения…
И чаша, конечно.
Впервые он увидел ее лишь на исходе второго года жизни в этом доме. Случайно заглянул в маленькую комнатку, удивившую его тогда своей странной формой – прямоугольный треугольник, одним катетом которого была стена, отделявшая комнату от зала, а другим – внешняя стена дома. Кресло, шахматный столик, в центре которого стояла чаша, и высокое старинное зеркало, в котором чаша отражалась.