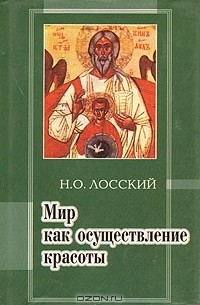Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
7. Учения о красоте как явлении бесконечной идеи
Шеллинг в своем диалоге “Бруно”, написанном в 1802 г., излагает следующее учение об идее и о красоте. В Абсолютном, т. е. в Боге содержатся идеи вещей, как их первообразы. Идея есть всегда единство противоположностей, именно единство идеального и реального, единство мышления и наглядного представления (Anschauen), возможности и действительности, единство общего и частного, бесконечного и конечного. “Природа такого единства есть красота и истина, потому что прекрасно то, в чем общее и частное, род и индивидуум абсолютно едины, как в образах богов; только такое единство есть также истина’' (31 с.). Все вещи, поскольку они суть первообразы в Боге, т. е. идеи, обладают вечною жизнью “вне всякого времени”; но они могут для себя, не для Вечного отказаться от этого состояния и придти к существованию во времени” (48 с.); в этом состоянии они суть не первообразы, а только отображения (Abbild). Но даже и в этом состоянии “чем совершеннее вещь, тем более она стремится уже в том, что в ней конечно, выразить бесконечное” (51).
В этом учении об идеях Шеллинг явным образом имеет в виду конкретно-идеальные начала, нечто вроде того, что я называю словами “субстанциальный деятель”, т. е. личность, потенциальная или действительная. В нем, однако, есть существенные недостатки: под влиянием кантианского гносеологизма все проблемы рассмотрены здесь, исходя из единства мышления и наглядного представления, из отношения между общим и частным, между родом и единичною вещью, так что понятие индивидуума в точном смысле не выработано. Еще яснее этот гносеологизм выражен в труде Шеллинга, появившемся двумя годами раньше, “Система трансцендентального идеализма” (1800 г.), где мировая множественность выводится не из творческого акта воли Божией, а из условий возможности знаний, именно из двух деятельностей, противоположных друг другу и состоящих в том, что одна из них стремится в бесконечность, а другая стремится себя в этой бесконечности созерцать”.
Учение о красоте как чувственном явлении бесконечной идеи в конечном предмете подробнее и обстоятельнее разработано Гегелем в его “Лекциях по эстетике”. В основу эстетики он полагает учение об идеале красоты. Искать этого идеала в природе нельзя, потому что в природе, говорит Гегель, идея погружена в объективность и не выступает как субъективное идеальное единство. Красота в природе всегда несовершенна (184): все природное конечно и подчинено необходимости, тогда как идеал есть свободная бесконечность. Поэтому человек ищет удовлетворения в искусстве; в нем он удовлетворяет свою потребность в идеале красоты (195 с.). Красота в искусстве, по учению Гегеля, стоит выше красоты в природе. В искусстве мы находим проявления абсолютного духа; поэтому искусство стоит рядом с религиею и философиею (123). Человек, опутанный конечностью, ищет выхода в область бесконечности, в которой все противоречия решены и достигнута свобода: это – действительность высшего единства, область истины, свободы и удовлетворения; стремление к ней есть жизнь в религии. В эту же область стремятся также искусство и философия. Занимаясь истиной как абсолютным предметом сознания, искусство, религия и философия принадлежат к абсолютной области духа: предмет всех этих трех деятельностей есть Бог. Различие между ними заключается не в содержании, а в форме, именно в том, как они возводят Абсолютное в сознание: искусство, говорит Гегель, вводит Абсолютное в сознание путем чувстве иного, непосредственного знания – в наглядном созерцании (Anschauung) и ощущении, религия – более высоким способом, именно путем представления, а философия – наиболее совершенным способом, именно путем свободного мышления абсолютного духа (131 с.). Таким образом Гегель утверждает, что религия стоит выше искусства, а философия – выше религии. Философия, согласно Гегелю, сочетает в себе достоинства искусства и религии: она совмещает в себе объективность искусства в объективности мысли и субъективность религии, очищенную субъективностью мышления; философия есть чистейшая форма знания, свободное мышление, она есть самый духовный культ (136).
Совершенной красоты надо искать в искусстве. В самом деле, красота есть “чувственное явление идеи” (144); искусство очищает предмет от случайностей и может изобразить идешь красоты (200). Совершенная красота есть единство понятия и реальности, единство общего, частного и единичного, законченная целостность (Totalitàt); она имеется там, где понятие своею деятельностью полагает себя как объективность, т. е. там, где имеется реальность идеи, где есть Истина в объективном смысле этого термина (137–143). Идея, о которой идет здесь речь, не абстрактна, а конкретна (120). В прекрасном и сама идея и реальность ее конкретны и сполна взаимопроникнуты. Все части прекрасного идеально едины, и согласие их друг с другом – не служебное, а свободное (149). Идеал красоты есть жизнь духа как свободная бесконечность, когда дух действительно охватывает свою всеобщность (Allgemeinheit) и она выражается во внешнем проявлении; это – живая индивидуальность, целостная и самостоятельная (199 сс.). Идеальный художественный образ заключает в себе “светлый покой и блаженство, самодовление”, как блаженный бог; ему присуща конкретная свобода, выраженная, например, в античных статуях (202). Высшая чистота идеального имеется там, где изображены боги, Христос, Апостолы, святые, кающиеся, благочестивые “в блаженном покое и удовлетворении”, не в конечных отношениях, а в проявлениях духовности, как мощи (226 с.).
Учения Шеллинга и Гегеля о красоте отличаются высоким достоинством. Без сомнения, они всегда будут лежать в основе эстетики, доходящей до последней глубины ее проблем. Пренебрежение к этим метафизическим теориям чаще всего бывает обусловлено, во-первых, ошибочною теориею знания, отвергающею возможность метафизики, и во-вторых, непониманием того, что следует разуметь у этих философов под словом “идея”. У Гегеля, как и у Шеллинга, слово “идея” означает конкретно-идеальное начало. В своей логике Гегель разумеет под термином “понятие" “субстанциальную мощь”, “субъект”, “душу конкретного”. Точно так же и термин “идея” в логике Гегеля обозначает живое существо, именно субстанцию на той ступени ее развития, когда она должна быть мыслима в философии природы как дух, как субъект, или точнее “как субъект-объект, как единство идеального и реального, конечного и бесконечного, души и тела”. Следовательно, идея в специфически гегелевском значении этого термина есть начало не отвлеченное, а конкретно-идеальное, то, что Гегель называет “конкретною общностью”.
Понятие может в процессе самодвижения преобразоваться в идею, потому что и понятие и идея суть ступени развития одного и того же живого существа, переходящего от душевности к духовности.
Вообще надо заметить, что система философии Гегеля есть не отвлеченный панлогизм, а конкретный идеал-реализм. Необходимость такого понимания его учений особенно выяснена в современной русской литературе, в книге И.А. Ильина “Философия Гегеля как конкретное учение о Боге и человеке”, в моей статье “Гегель как интуитивист” (Зап. Русск. Научн. Института в Белграде<1933>, вып. 9; Hegel ais Intuitivist, Blatter fur Deutsche Philosophie, 1935 <vol. IX, № 1>).
Есть, однако, и серьезные недостатки в эстетике Гегеля. Понимая, что красота в природе всегда несовершенна, он ищет идеала красоты не в живой действительности, не в Царстве Божием, а в искусстве. Между тем, и сотворенная человеком в художественных произведениях красота тоже всегда несовершенна, как и красота природы. Протестантский абстрактный спиритуализм сказывается в том, что Гегель не усматривает великой истинности конкретных традиционно-христианских представлений о чувственно-воплощенной славе Господней в Царстве Божием и решается даже утверждать, будто философия с ее “чистым знанием” и “духовным культом” стоит выше религии. Если бы он понимал, что католический и православный телесно-духовный пульт гораздо более ценен и истинен, чем духовность, невоплощенная телесно, он по-иному оценил бы также и красоту живой действительности. Он увидел бы, что лучи Царства Божия проникают в наше царство бытия сверху донизу; оно содержит в себе хотя бы в зачатке процесс преображения, и потому красота в жизни человека, в историческом процессе и в жизни природы во множестве случаев бесконечно более высока, чем красота в искусстве. Главное отличие системы эстетики, которая будет изложена мною, состоит именно в том, что, исходя из идеала красоты, действительно осуществленного в Царстве Божием, я буду разрабатывать далее учение о красоте главным образом в мировой действительности, а не в искусстве.
Второй существенный недостаток эстетики Гегеля обусловлен тем, что в его философии, которая представляет собою разновидность пантеизма, не выработано правильное учение о личности как абсолютно денном бессмертном индивидууме, вносящем в мир единственные по своему своеобразию и ценности содержания бытия. Согласно эстетике Гегеля, идея есть сочетание метафизической общности с определенностью реальной частности (30); она есть единство общего, частного и единичного (141); в идеальном индивидууме, в его характере и душевности, общее становится его собственным, даже наиболее собственным (das Eigenste 232). Индивидуальность характера есть его Веsonderheit, Bestimmtheit, говорит Гегель (306). Во всех этих своих заявлениях он имеет в виду логические отношения общего (das Allgemeine), частного (das Besondere) и единичного (das Einzelne). В действительности эти отношения характерны для нашего падшего царства бытия, в котором личность не осуществляет своей индивидуальности, и даже, выходя за пределы своей себялюбивой замкнутости, например в нравственной деятельности, чаще всего ограничивается тем, что воплощает в своих добрых поступках лишь общие правила морали, а не творит нечто единственное на основании индивидуального акта; в таком состоянии личность в большей части своих обнаружений подходит под понятие “единичного”, в котором осуществлено “общее”, т. е. она есть экземпляр класса. Подлинный идеал индивидуальности осуществлен там, где личность воплощает в себе не общее, а ценности мирового целого, и представляет собой микрокосм столь своеобразный, что понятия общего и единичного перестают быть применимыми. Поэтому во избежание недоразумений, говоря о красоте, я не буду пользоваться термином “идея” и поставлю в основу эстетики следующее положение: идеал красоты есть красота личности, как существа реализовавшего сполна свою индивидуальность в чувственном воплощении и достигшего абсолютной полноты жизни в Царстве Божием.