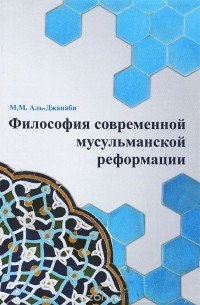Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
§ 3. Практическое самосознание и рационализм исламской реформации
Не допускать превращения критических идей в догматические – значит подвергнуть новому, рационалистическому отрицанию наследие «столетнего цикла», традиций салафитского обращения к догматам прошлого и их слепого копирования. Такой традиционалистский подход сдерживал рационалистическое, реалистическое видение, втискивая его в рамки священных догм. В связи с этим мусульманский реформизм шел по пути реалистического и рационалистического отрицания салафитского традиционализма, осознанно подвергая его испытанию теоретической и фактической исторической практикой. Традиции критиковались им в рамках определенного «плана». Если традиционализм постоянно обращался к богословской мысли, к её институциональному и ценностному постоянству в том, что касалось таких понятий, как «община» и «спасаемая община», прилагаемых к «творящему я», то мусульманский реформизм начал ломать эту традицию. Он обосновал идею, согласно которой «творящее я», в том числе в его джихаде, не обязано верить во что бы то ни было, кроме того, что оно принадлежит исламскому целому. А это последнее не представляет собой чего-то неизменного, не исповедует неоспоримых догматов: это обновляющееся содержание истин, которые открываются в рационалистических теоретических трудах и на поприще политической (и нравственной) эволюции. Из этого вытекает сосредоточение на самокритике. Достигая состояния самокритики, общественное сознание начинает познавать свою изначальную суть, а затем приступает к разработке институциональных элементов критического мышления при рассмотрении общественных явлений с их различными формами и уровнями, предполагая, что крупные идеи должны быть подвергнуты рассудочному и нравственному «суду», так как именно это является необходимой предпосылкой высвобождения из плена традиций.
Таким образом предопределялось решительное оппонирование традиции в исламской реформации, что характерно для всякого крупного реформаторского движения. Однако специфика состояла в том, что такое оппонирование происходило под влиянием критического и позитивного осознания приоритетов исторической действительности, выдвигаемых ею крупных социальных, политических и нравственных проблем. Также обусловливалось игнорирование таких традиционных вопросов, как основы единобожия, ислам и вера, богохульство и язычество, умма и спасаемая община, что отвергалось при опоре на рационалистическое и реформаторское восприятие реальных идейных проблем. В частности, это можно обнаружить в наращивании и углублении дискуссии, развернувшейся вокруг таких вопросов, как сущность религии и её значение для общества, гражданские и цивилизационные стимулы в исламе, причины цивилизационного упадка мусульманского мира, проблемы религиозной реформации и возможные пути к возрождению, культурная самобытность и политическая эмансипация, мусульманское единство и независимость, ислам и национализм, мусульманское и национальное самосознание, власть и государство, право и закон, конституция, религия и мирская жизнь, ислам и наука и многие другие.
Вопросы, связанные с прошлым, уходили на задний план, уступая место проблемам реальной действительности, что с необходимостью повлекло за собой возникновение критического духа исламской реформации, деятели которой начали с оппонирования слепого следования авторитетам, а закончили призывом к свободному подходу ко всем вопросам. Так, аль-Афгани, нападая на индийских дахритов (натуралистов), стремится в первую очередь вскрыть подражательный характер их убеждений. Он, по существу, не рассуждает о философских проблемах Бога и Вселенной, Творца и творения, а задается вопросом, в состоянии ли индийские дахриты создать что-либо полезное. В своей полемике с ними он не поднимал крупных философских вопросов и не затрагивал их практическое влияние на проблемы этики и религии; такие вопросы всегда находились в центре его внимания. Здесь отразились первоначальные этапы его идейной эволюции, или того, что сам аль-Афгани называет «теоретическим обогащением его ума» в Индии. В его письменных трудах и размышлениях нет места чисто богословским вопросам; богословскую проблематику он активно прилагает к этическим вопросам, утверждая приоритет политики. Опыт первоначальной рационалистической полемики с дахритами – это опыт практической мысли в поиске столпов самобытности. В дахритах аль-Афгани видел людей, «которым нет доли в науке и даже в человечности. Они далеки от разумной проповеди, лишены права обвинять и возражать. Да, если бы нужно было создать театр, где изображалось бы состояние цивилизованных наций, то в них появилась бы нужда, чтобы разыгрывать подобные представления».
Такое стремление выступить против слепого подражания предопределило задачу освободить себя, утвердить критические подходы, провозгласить необходимость самостоятельного решения возникающих проблем как неотъемлемого права человека. В связи с этим аль-Афгани не обсуждает проблему иджтихада в деталях, а ставит её в определенную плоскость как вопрос, который сам заключает в себе ответ. Он задается вопросом: «Что значит, что врата иджтихада закрыты? В каком священном тексте говорится о том, что они закрыты?»Аль-Афгани считает такой подход абсурдным и бессмысленным. Поэтому он игнорирует его путем встраивания в общее критическое видение. Отсюда внимание к вопросам, связанным с критикой «восточного менталитета», который он считает реальным и одновременно традиционным феноменом. Так, в установлении британского владычества над странами Востока он усматривает результат знания англичанами господствующего там «восточного менталитета», взирающего на все новое и необычное как на чудо. Он не считает такой менталитет неизменным, врожденным, и видит в нем отражение иллюзий, преобладающих у жителей Востока. Описывая отношение жителей Востока к англичанам, он уподобляет его тому, как если бы некто, проходя по пустыне, увидел на дороге труп льва, вообразив при этом, что перед ним сильный и опасный хищник. Такое сравнение аль-Афгани предпосылает своей резкой критике различных аспектов «восточной жизни», начиная с политической системы и традиций деспотизма и кончая неустойчивостью морального духа. В Востоке он видит больное тело и слабый дух, которые плохо поддаются лечению из-за того, что он называет пассивностью, нерешительностью, разномыслием, инертностью, отказом от стремления гордиться собой, отсутствием удовольствия от обретения нацией силы и подлинной свободы. Сокрушаясь обо всем этом, аль-Афгани порой полагает, что преодолеть тяжелую ситуацию можно лишь в том случае, если «кризис ужесточится, давление усилится настолько, что они растеряют остатки столь привычного им состояния, близкого к самоуспокоенности». Иными словами, он хотел, чтобы жители Востока достигли осознания того, что они лишились всего, что отныне им не будет покоя. Лишь в этом случае они перейдут от «смерти» к «жизни». Такой глубинный эмоциональный подход стал отражением идеи подвига, трагической борьбы, которая в своей кульминации дарит луч надежды, а в гибели героя грядущие поколения видят живой пример для подражания.
Аль-Афгани не позволяет этому критическому видению блуждать по пути возбужденных чувств; он направляет его в реальный ход реформирования. Он резко нападает на «людей трибун», тех, кто даже не умеет хорошо произносить речи, чьи познания сводятся к повторению заученных фраз – таких, например, как «прекрасная роза распустилась из своего благородного корня». Что касается восточных правителей, то они, по мнению аль-Афгани, – всего лишь напыщенные коты, которых интересуют только «звонкие фразы и громкие титулы». Вместе с тем он, подобно другим идеологам мусульманской реформации, уделяет главное внимание поиску реальных причин такого положения. В связи с этим он сосредоточивается на нравственных и психологических аспектах, на самокритике как необходимой предпосылке активизации социального и политического действия, возрождения увядшего духа. Сравнивая арабов с турками, он придает основное значение идее наследия, исторического и культурного влияния. Арабы оставили великие свидетельства творчества, между тем как турки, несмотря на свою мощь и многовековое владычество, не создали ничего примечательного, что является следствием коренного различия в отношении к творчеству. Если арабо-мусульманский халифат основывался на духовности и культуре, то турецкий халифат оставил после себя лишь армию и войну. В то же время это не мешает аль-Афгани адресовать наиболее резкую критику в первую очередь именно арабам, поскольку, как он говорит, грешно оставить наследие и не сохранить его. В связи с этим он ссылается на отношение французов к поражениям, которые они потерпели от немцев в 1870 г. Здесь аль-Афгани стремится показать значимость рациональной самокритики как предпосылки действия. Рассуждая о мощи англичан и их владычестве над обширными регионами мира, он пытается показать, что данное владычество не имеет прочной основы, кроме преобладания иллюзий, страхов и трусости в умах представителей порабощенных народов. Он указывает, что в арабских странах есть такие люди, которые боятся британской державы уже потому, что она владеет многими царствами. В этом он усматривает результат того, что англичане используют «воображаемый купол», накрывая им остальных. В историческом плане реально лишь то, что иностранное господство устанавливается тогда, когда происходит внутренний обвал. Именно внутреннее крушение является ключом к нашествию завоевателей. Англичане, говорит аль-Афгани, вошли в Египет с помощью самих египтян. Египет был тогда расколот из-за движения Ораби-паши, часть египтян ностальгировала по прошлому, а другая часть боялась; ведь если есть сомнения, то нет решимости. В связи с этим аль-Афгани ставит задачу бороться с трусостью наряду с необходимостью разрушить основы социальных и политических иллюзий. Трусость, по его мнению – болезнь духа; она отнимает силу, сохраняющую бытие, которую «Бог сделал одним из столпов естественной жизни». Здесь аль-Афгани усматривает то, что он назвал «бактерией, порождающей всякое индивидуальное, общественное и политическое разложение», встраивая трусость в цепочку общественно-политической реальности. Отсюда и предлагаемая им альтернатива: «Сыны нации ислама уже в силу своей веры должны быть дальше остальных от такой характеристики, как трусость». Достичь этого трудно, не обратившись к внутренней душевной силе и не поняв, к какой слабости ведет иллюзия. В англичанах аль-Афгани видел «червяка», который, несмотря на свою слабость, подрывает здоровье и ломает тело. Только когда исчезнет иллюзия жителей Востока относительно англичан (то есть когда они осознают собственную силу и слабость своих поработителей), они добьются независимости и разорвут цепь перехода из одного рабства в другое. Аль-Афгани стремится увязать компоненты критического подхода в рамках некоего понятного целого, обосновать рациональность критического подхода, уложив его в проект перспективных альтернатив.
Подобно другим крупным деятелям реформации, аль-Афгани не обосновывал легитимность рациональных альтернатив традициями «чистого» рационализма или рассудочными традициями калама. В своем отношении к иджтихаду он ограничивается неоднократными указаниями на важность доводов разума, активно используя их в ходе анализа тех или иных явлений и формулирования своего отношения к ним, отстаивая значимость разума как важнейшего элемента исламской религии. В связи с этим он утверждает, что первейшим условием счастья является чистота ума. Согласно религии ислама нельзя достичь совершенства иначе как «на основе умственного и духовного совершенства». Достижение счастья он связывает с преобладанием разума. Но если эта идея во многом приближается в своей теоретической основе к традициям «оттачивания нравов» в мусульманской классической философии, то в практическом преломлении во взглядах аль-Афгани она приобретает новое, общественно-политическое и реформаторское измерение. Увязав счастье с разумом, он отбрасывает «религиозное посредничество». Отсюда его призыв к свободе разума, указание на его действенную просветительскую роль. Аль-Афгани подчеркивает необходимость того, чтобы «убеждения нации строились на сильных аргументах и верных доказательствах». В этом смысле можно также понять идею «телеологического разума», присутствующего в некоторых его взглядах и суждениях – например, в его попытке доказать, что конечная цель совершенства бытия – это божественная мудрость в её разумных проявлениях. «Кто взирает на целостный мир бытия, – пишет аль-Афгани, – тот убеждается в том, что хотя многие образы его совершенства возникают под воздействием природных сил, в целом оно подчинено твердому разумному устроению. Под разумным устроением мы подразумеваем то, что строится на учете целей, мудрости и пользе совершенства, которое присуще всеобщему порядку и сохраняется благодаря сохранению этого порядка». Рассуждение о «всеобщем порядке» аль-Афгани относит не к богословским построениям, а кладет его в основу рационального взгляда на философское целое, на все то, что может послужить «программированию» разумного реформаторского проекта.
Разуму аль-Афгани придавал одновременно познавательное и деятельное значение. Он стремился вскрыть потенциал разума, позволяющий ему познавать истинную сущность вещей, в том числе «творить невозможное», полагая, что с помощью разума человек может совершить такие открытия, которые позволят ему добраться до Луны. За всем этим стоит его стремление обосновать практическую действенность разума, а затем и приобщить его к деятельной реформации. В разуме аль-Афгани усматривает силу, стоящую за прогрессом Европы, которая благодаря опоре на разум освободилась от слепого следования авторитетам, в том числе касающейся основ религии. Именно разум позволил Европе совершить быстрый скачок в развитии современной цивилизации и торговли. Аналогичный подход встречаем и в отношении аль-Афгани к исламской реформе. В возвышенности разума он видит основу достойной цивилизации. Однако, в отличие от мыслителей прошлого, аль-Афгани встраивает эту мысль не в философско-утопический контекст, а в рамки рациональной реформы, то есть в рамки рационализации волевого акта, обогащения его возвышенными реформаторскими ценностями, общественно-политическими приоритетами. И если в некоторых формулировках просматривается груз былого мышления, то с точки зрения целей здесь видно стремление возродить общественное и культурное бытие таким образом, чтобы путем сознательного действия добиться осуществления насущных задач. Желая этически обосновать общественно-политическое единство, аль-Афгани пишет: «Добродетели – это то, что обеспечивает единство между обществом и индивидами. Благодаря добродетелям люди стремятся к себе подобным, так что масса людей становится подобной единичному человеку, направляется единой волей и устремляется в своем движении к единой цели». По своему сопоставительному характеру данная мысль воспроизводит образцы эпохи пророка (раннего ислама), а по своей реалистичности отображает рациональное обоснование совместной воли как средства преодоления разногласий, отсталости и раздробленности. Аль-Афгани стремился не возродить традиционный подход к единству как к общности религии и мирской жизни мусульманской уммы, а побудить к свободному объединению на основе рассудочно-нравственной воли и действия.
К аналогичным взглядам и позициям приходит в ходе своих размышлений и научной деятельности Мухаммед Абдо. Если у аль-Афгани реформаторский рационализм с его критической направленностью был наиболее широким проявлением самокритики, то у Мухаммеда Абдо он проявился более глубоко. Взгляды аль-Афгани в этой области дошли до своего логического конца, но не на пути непосредственной политики, а в сфере просветительского реформирования. Позиции Абдо отличаются более приглушенным критицизмом; точнее говоря, он не поднимал проблем, занимавших аль-Афгани. Мы не найдем у него тем восточного и мусульманского менталитета, национально-патриотической проблематики, вопросов силы и политики, трусости и порока, готовности к самопожертвованию и действию. Вместо этого он выделяет тематику разума и рационального подхода, ислама и науки, образования и просвещения, правовой реформы, возрождения культурного наследия. В этих темах находит отражение специфика самокритичного подхода у Абдо. Например, она проявилась в его ответах на публикации журнала «Аль-Джамиат», где ислам подвергался критике в сопоставлении с христианством. Впоследствии эти ответы вошли в знаменитую книгу Абдо «Ислам и христианство: между наукой и цивилизацией».
Его острая критика христианства была не столько формой религиозно-богословской полемики, сколько одной из разновидностей рационалистической самокритики. В связи с этим он не старается приводить исторические доказательства справедливости своих утверждений, поскольку не считает это важным, а ограничивается указанием на рационалистические и гуманистические ценности ислама как мировоззрения и религии, не игнорируя при этом и его исторических негативных черт. Абдо хочет сказать, что между реальным исламом его времени и истинным исламом лежит огромная дистанция. Что касается критики им христианства с такими основами, как сохранение нелепых обычаев, клерикальная власть, уход от мира, вера в иррациональное, претензия на то, что священные книги христианства заключают в себе все знания мира от первых людей и до последних, нетерпимость и указания на соответствующие нормы ислама – это было лишь косвенным формулированием рационально-критического реформизма Абдо. Свои взгляды, прямые и косвенные подходы он сумел сплавить в рационализме реформы, приоритете познавательного духа перед духом политического реформаторства. Критикуя застой мусульманского мира, он делает акцент на таких областях, как язык, законодательство и убеждения.
В этом смысле М. Абдо дополнил и расширил критическую направленность реформизма аль-Афгани в сфере рационального иджтихада как познавательного (просвещенного) джихада. Отсюда и его сосредоточенность на ценности иджтихада, и неприятие им слепого следования авторитетам. Появляющиеся вновь и вновь недопустимые религиозные новшества он считает следствием неправильного мировоззрения. А оно, в свою очередь, порождается «плохим подражанием, застойным повторением того, что говорили первоначальные, без попыток убедиться в справедливости этого, в игнорировании рассудка в вероучении». Данная мысль основана на оценке Мухаммедом Абдо разума как «наиболее мощной силы, силы сил человечества и его опоры. Вся Вселенная – его газета, которую он листает, его книга, которую он читает».
Абдо не возвеличивает разум в традиционных хвалебных выражениях. Признавая его ценность, он пытается подчеркнуть его культурную значимость для самого мира ислама. В связи с этим он вскрывает прочную рациональную основу мусульманского мира и его культуры как одного из его столпов. Рассматривая то, что он называет истинным исламом, Абдо обращается к анализу «двух призывов» мусульмансой шахады: первый – призыв к вере в существование единого Бога, а второй – призыв верить в миссию пророка Мухаммеда. Применительно к первому призыву он считает необходимым полагаться на разум, поскольку только он может доказать, что единый Бог воистину существует. Абдо стремится не только подчеркнуть значимость разума для веры и его приоритет, но и сформулировать единство веры и разума посредством логических выкладок. Он указывает, что первый призыв основывается на «пробуждении человеческого разума, побуждении его к тому, чтобы взирать на Вселенную, используя правильные мерила, обратиться к тому стройному порядку, который царит в мире, к взаимосвязанности причин и следствий – и тогда он придет к признанию того, что существует Творец Вселенной».
Это означает лишь подчеркивание принципиальной значимости разума, его приоритетности при постижении существования Бога и Его единственности. Абдо пишет, что «ислам опирается ни на что иное, как на рассудочное обоснование призыва к вере в Бога и в Его единственность». Более того, он указывает на то, что Коран не ограничивает человеческий разум в постижении мира, ибо постижение мира как раз и подводит человека к единобожию. Обратившись к основам исламского вероучения, Абдо усматривает их прежде всего в рациональном подходе и приоритетном значении разума в тех случаях, когда его доводы вступают в противоречие с нормами шариата.
Мухаммед Абдо стремится подкрепить рационализм ислама реформаторским духом, утверждая, что иджтихад всегда и прежде всего должен опираться на разум, тем самым придавая новые основания рационализму. Уже само по себе это означало отход от привычных традиций калама. Абдо не погружается в рассуждения о традиционности крупных основ ислама, а рассматривает их сквозь призму диалектических идей, казалось бы, противоречащих исламу. Нормы, которые он стремится обосновать, базируются не на рефлексии, как может показаться из содержания книги «Ислам и христианство», а на рационалистическом самопознании как принципе обновления ислама. О нормах он рассуждает как о столпах веры, на которые опираются все побочные ее ответвления, то есть придает им всеобщий и системный характер. Правда, эта «система» у Абдо обладает лишь весьма общими и в определенной мере разрозненными признаками, не сложившись в законченную теорию исторического и социально-политического критического самосознания, ограничившись лишь выделением наиболее крупных приоритетов.
Мухаммед Абдо пытается представить новые принципы реформирования как рационального просветительского процесса. Защищая ислам, он сосредоточивается на самоценности рассудка и самостоятельного мышления, в том числе при указании на случаи, которые могут служить примером для мусульман в их реформаторских устремлениях. Он причисляет к столпам ислама рассудочное рассмотрение, предпочтение разума шариату в случае противоречия между ними, отказ от обвинения в неверии, извлечение уроков из божественного устроения мира, отвержение клерикальной власти, толерантность, объединение земных интересов с потусторонней жизнью. Рациональное рассмотрение он считает средством веры и достижения истины; оно является наиболее сильным аргументом для человека и критерием справедливого правления и власти. Если рассудок вступает в противоречие с традицией, приоритет должен отдаваться доводам разума. Под отказом от обвинения в неверии Абдо понимает отход от традиций прошлого, обеспечение свободы мысли. «Извлечение уроков из божественного устроения мира» означает у него то, что «после пророков в ходе призывания к истине можно основываться лишь на доводах рассудка». Религия по своей природе соответствует установлениям и законам народов и наций. Отказ от клерикальной власти означает устранение принципа непогрешимости и религиозного посредничества между Богом и человеком. В исламе, говорит Абдо, не существует представления о том, что кто-то может лучше других понимать Коран и обладать некими особыми знаниями. Знание не является привилегией кого бы то ни было. Люди различаются между собой лишь «по чистоте ума и обладанию мудростью».
Всем этим Абдо стремится подкрепить свое рационалистическое реформаторство, особенно в том, что касается его будущих практических результатов. Неслучайно образцы для подражания он отыскивает в прошлом, стараясь увязать исторические идеалы с горизонтами нового видения. Отсюда же и его попытка указать на умеренность исламского рационализма с точки зрения духа и тела, разума и совести. Элементы такой умеренности он находит в историческом, современном и перспективном существовании ислама, в образцовом и вероятном (будущем) исламе. В связи с этим Абдо призывает к умеренности в обычаях и культовых обрядах, исходя из того, что сам ислам «не урезал чувства в правах; он готовил дух к достижению совершенства. Ислам соединил в человеке две природы, сделав его говорящим животным, не только плотским существом, но и не чисто ангельским созданием». Если эта внешняя формула общей умеренности в духе и теле является адекватным выражением «рационалистического богословия» в исламе, то её реальный (практический) рационализм наглядно проявляется в исторических и духовных примерах. Так, рассматривая вопрос об аскезе в исламе, Абдо указывает, что склонность праведных халифов к аскезе соответствовала исламской религии; склонность Муавии к роскоши также соответствовала религии; все дело в различии обстоятельств. В поведении Муавии Мухаммед Абдо не только не усматривает ничего противоречащего тому, что разрешено исламом, но и считает его полезным для «распространения искусств и разнообразных ремесел».
В области духа Абдо стремится указать на потенциал исламской реформации, обосновать ее в терминах политики и прямого социального действия, единства разума и чувства. Рассуждая об оптимизме, присутствующем в современную ему эпоху, он говорит о том, что ислам может возродить свою силу в рамках современной цивилизации; для этого необходимо сформулировать новое единство разума и чувства. Залогом такого единства ему видится развитие науки и религии (реформированной), обеспечение необходимой гармонии исторического и культурного бытия мусульман, гармоничного единства мирской и загробной жизни, науки и религии, рассудка и веры. В единстве науки и религии, достижении согласия между ними Абдо видит необходимость, диктуемую логикой истины и одновременно логикой нравственности. Эту связь он выразил через идею единства разума и чувства как результата вклада, вносимого религией в науку и наукой в религию. Речь идет о древнем единстве того, что можно назвать культурой исламских норм, заложенных на протяжении истории: это образцы единства того, что постигается разумом, и того, что передается традицией, разъяснением и рациональным истолкованием священных текстов, явного и скрытого, истины и религиозного закона. Рассуждая о просвещенных традициях, Абдо утверждает, что «развитие разума с помощью науки ведет к тому, что он достигает своей силы и познает границы своего могущества. Он ведет себя так, как Бог позволил вести себя праведным, познавая тайны обоих миров. А если его ослепит величие Творца, он смиренно застынет перед ним, обратится вспять и станет придерживаться позиции твердых в знании». Тогда разум соединится с искренним чувством, или с сердцем, ведь «чувство не оспаривает разум, шествующий в пределах своего царства, если это чувство верное и правильно восприняло свет от светильника веры». Эта умеренная, или разумная промежуточная связь, обоснована исламской теоретической мыслью начиная с аль-Мухасиби и кончая аль-Газали. Абдо опровергает утверждения «простаков» о том, что в силу врожденных инстинктов разум отличается от чувства. Если такое отличие и возникает, то оно является лишь одним из симптомов болезни духа. Ведь разумные люди сходятся на том, что чувственное, интуитивное (сердечное) созерцание – одна из основ рационального постижения. Далее Абдо доводит эту мысль до логического конца, объединяя разум и чувство в следующем высказывании: «Нам дан разум, чтобы видеть цели, причины и следствия, отличать простое от сложного, и нам дано чувство, чтобы постигать то, что творится в душе: приятное и болезненное, тревожащее и успокаивающее, объединяющее и подчиняющее и тому подобное из того, что человек чувствует, но не может ясно высказать». Тот же вывод присущ рационалистическому реформизму аль-Афгани с его критическим характером, то есть критическому синтезу рационализма и суфизма.