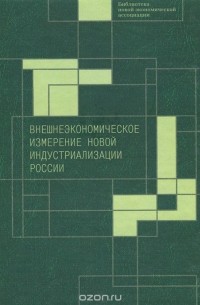Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 5. Технологическая модернизация российской экономики и правила ВТО
Присоединение к ВТО, как утверждают некоторые отечественные эксперты, является серьезным препятствием для структурной перестройки российской экономики и осуществления промышленной политики. Отмечается, например, что правила этой организации предусматривают жесткие ограничения «на использование промышленной политики, необходимой, прежде всего, догоняющим странам», что такие ограничения невозможно обойти без опоры на государственную собственность, которая играла бы роль проводника этой политики. Это и подобные ему утверждения, по меньшей мере, спорны. И вот почему.
В преамбуле соглашения о создании ВТО есть упоминание о характере экономической политики, проводимой странами-членами. В ней, в частности, указывается, что отношения стран-членов «в области торговли и экономическая политика должны осуществляться с целью повышения жизненного уровня, обеспечения полной занятости и значительного и постоянного роста уровня реальных доходов и эффективного спроса, а также расширения производства и торговли товарами и услугами при оптимальном использовании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития…».
В правовой пакет ВТО входят около шестидесяти многосторонних соглашений и других документов. Но среди них нет специальных соглашений, каким-либо образом стандартизирующих проведение правительствами стран-членов промышленной политики. В документах ВТО зафиксированы нормы, которыми прежде всего и преимущественно должны руководствоваться национальные правительства при использовании инструментов регулирования внешней торговли товарами и услугами, защиты прав интеллектуальной собственности. В какой-то мере связанные с промышленной политикой вопросы затрагиваются несколькими соглашениями ВТО, в которых излагаются правила применения субсидий, технических регламентов и стандартов, а также запреты, относящиеся к регулированию прямых иностранных инвестиций.
Очевидно, что при реализации мер промышленной политики в соответствии с обязательствами, принятыми на себя Россией, в первую очередь потребуется учитывать положения ВТО в отношении промышленных субсидий. Субсидия определяется этой организацией как финансовое содействие со стороны правительства предприятию или отрасли производства, содержащее в себе льготу и дающее известное конкурентное преимущество этому предприятию или отрасли. Любое действие правительства или правительственного органа, которые предоставляют финансовые средства, товары, услуги и т. п. предприятию на условиях лучших, чем те, что существуют на рынке, содержит в себе льготу и, следовательно, может рассматриваться как субсидия.
Все субсидии ВТО делит на два вида: специфические и неспецифические. Субсидия является специфической, если субсидирующий орган предоставляет ее только отдельным предприятиям, группам предприятий или отдельным отраслям промышленности, т. е. носит избирательный характер. Но субсидия не рассматривается как специфическая, если установлены объективные критерии или условия получения субсидии, а само право на ее получение является общедоступным и автоматически действующим. Использование специфических субсидий может рассматриваться другими странами как основание для проведения расследований и принятия специальных ограничительных мер в отношении импорта субсидируемой продукции, применение же неспецифических субсидий таким основанием быть не может.
Правила ВТО направлены на ограничение или запрещение применения исключительно субсидий, которые оказывают неблагоприятное влияние на торговлю, давая конкурентное преимущество экспортеру или производителю субсидируемой продукции.
В зависимости от степени влияния на торговлю субсидии подразделяются на три условные группы (соответственно цветам светофора):
• категорически запрещенные субсидии (красный цвет), к которым относятся экспортные и импортозамещающие, т. е. предоставляемые на цели приобретения отечественной продукции взамен импортной. Против этих субсидий правительства стран, производители которых несут ущерб от субсидирования, могут в ускоренном порядке и по упрощенной процедуре применять ответные меры, в том числе вводить компенсационные пошлины;
• субсидии, «дающие основание для разбирательства» (желтый цвет). При установлении факта субсидирования использующая ее страна должна отозвать субсидию, а страна, которой наносится ущерб, может ввести компенсационную пошлину;
• субсидии, «не дающие основания для преследования» (зеленый цвет), или, другими словами, разрешенные субсидии. Они могут предоставляться государством неограниченно, в частности, на финансирование НИОКР, регионального развития, адаптации предприятий к новым требованиям по охране окружающей среды и в ряде других случаев.
Таким образом, в действительности правила ВТО по существу накладывают жесткие ограничения только на применение мер промышленной политики, имеющих своей целью финансовую поддержку государством либо экспорта, либо импортозамещения. Использовать такие субсидии Россия теперь не имеет права.
Нормы ВТО, касающиеся технического регулирования, направлены на то, чтобы не допустить использования национальных технических регламентов и стандартов в качестве нетарифных барьеров и максимально уменьшить их ограничительное воздействие на внешнюю торговлю. В связи с этим предусматривается, что упомянутые регламенты и стандарты должны основываться на международных стандартах, базироваться на научно обоснованных данных и информации. Вместе с тем ВТО разрешает странам-членам отклоняться от международных стандартов, если этого требуют фундаментальные географические или климатические факторы, либо фундаментальные технологические проблемы. С учетом всего этого можно предположить, что выполнение нашей страной обязательств в области технического регулирования каких-либо дополнительных проблем в реализации промышленной политики не вызовет.
Правила ВТО в определенной мере ограничивают регуляторную роль государства в отношении деятельности предприятий с иностранным участием. Они не позволяют устанавливать для таких предприятий какие-либо нормативы, которые определяли бы долю в их конечной продукции товаров местного производства, долю импорта в закупаемых ими материальных ресурсах, долю экспорта в общем объеме их продаж и т. д., трактуя эти нормативы как количественные ограничения.
Российской делегации удалось договориться о сохранении до 1 июля 2018 г. условий соглашений с ведущими мировыми концернами о промышленной сборке автомобилей на территории России, не соответствующих упомянутым нормам ВТО. В соответствии с этими соглашениями при ввозе в РФ автокомпонентов для сборки по-прежнему будут применяться льготные таможенные пошлины – от 0 до 5 %. Сохранятся и обязательства иностранных автопроизводителей довести к окончанию срока действия соглашений уровень комплектации автомобилей деталями, произведенными на территории России, до 60 %, наладить на предприятиях штамповку, сварку и окраску кузовов, установление на машинах 30 % двигателей и коробок передач российского производства, создать в России центры научно-исследовательских разработок. Но с середины 2018 г. упомянутые соглашения потеряют свою силу, и государству придется придерживаться норм ВТО, касающихся регулирования деятельности предприятий с участием иностранного капитала.
Отдельные российские исследователи также отмечают, что проведение промышленной политики в странах догоняющего развития (включая, видимо, и Россию) в настоящее время серьезно затруднено, поскольку возможности таможенного регулирования импорта в немалой своей части ограничены правилами ВТО. Из этого, по их мнению, вытекает, что «правила ВТО фактически перекрывают возможность создания национальных народнохозяйственных комплексов, сердцевину которых, как известно, образует обрабатывающая промышленность». Данное утверждение представляется излишне категоричным.
Следует напомнить, что обязательства по либерализации тарифных барьеров, действующие в настоящее время, взяты большинством стран-членов ВТО еще в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, который завершился двадцать лет назад. Тогда участники переговоров договорились, что в течение пяти лет развитые страны снизят средний уровень таможенных пошлин на промышленные товары на 40 %, а развивающиеся – на 2/3 от этого уровня. Они также взяли на себя обязательства «связать» подавляющую часть импортных пошлин, то есть не повышать их в будущем в одностороннем порядке. Развитым странам предстояло довести долю «связанных» пошлин в общем их количестве до 97 %, а развивающимся – до 91 %. Кроме того, США, Япония, ЕС и Канада обязались ликвидировать пошлины на лекарственные препараты, медицинские инструменты, строительное оборудование, сельскохозяйственную технику, черные металлы, мебель, бумагу, пиво, крепкие алкогольные напитки и игрушки. С тех пор обязательства по снижению пошлин принимали на себя только страны, присоединявшиеся к ВТО после ее создания.
Анализ действующих таможенных режимов стран-членов ВТО и стран-наблюдателей, ведущих переговоры о присоединении к этой организации, показывает, что в подавляющем большинстве развивающихся стран ставки импортных пошлин на готовую продукцию остаются заметно более высокими, чем в странах развитых. В отдельных случаях разница по готовой продукции в целом составляет 15 раз, по машинотехнической продукции – 30 раз. Во многих развивающихся странах величины пошлин на ввоз машин, оборудования и транспортных средств достигают двузначных значений, тогда как в Норвегии и Японии такие пошлины вообще не взимаются (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Средневзвешенные ставки импортных пошлин на готовую продукцию в отдельных странах (%)
Составлено по: данные UNCTAD Handbook of Statistics 2012. P. 256–271. (www.unctad.org).
Подсчеты показывают, что во включенных в таблицу развивающихся странах средний уровень таможенного обложения ввозимой химической продукции составляет 11,5 %, машинотехнической – 16,6, другой готовой продукции – 39,3 %. Эти страны, следовательно, располагают вполне реальными возможностями протекционистской защиты своих производителей с помощью ставок импортного тарифа. Кроме того, как показывает практика, большинство развивающихся стран заметно занижает официальные курсы своих национальных валют относительно ППС, что служит для них дополнительным средством защиты внутреннего рынка. Однако использование высоких импортных пошлин в целях защиты национального производства оборачивается для предприятий стран догоняющего развития возникновением финансовых трудностей в осуществлении импорта промышленного оборудования, с помощью которого можно было бы осуществлять их техническое оснащение. Другими словами, тарифный протекционизм выступает не только инструментом защиты отраслей национальной промышленности, но и определенным тормозом индустриализации, в том числе создания обрабатывающих отраслей.
Россия, в отличие от развивающихся стран, до присоединения к ВТО не применяла в отношении ввоза готовой продукции чрезмерно высокие импортные пошлины. Ставки этих пошлин были умеренными, что позволяло, с одной стороны, защищать внутренний рынок, а с другой – не перекрывало отечественным предприятиям обрабатывающих отраслей возможность модернизировать производственные процессы с помощью оборудования иностранного производства. До глобального кризиса правительство пошло даже на то, чтобы обнулить импортные пошлины на оборудование, непроизводимое в нашей стране. По условиям присоединения к ВТО, согласно сложившейся в этой организации практике, нашей стране пришлось пойти на определенную либерализацию импортного тарифа, и к окончанию переходного периода средневзвешенная ставка пошлины на промышленную продукцию должна быть снижена до 6,4 % (11,3 % – до присоединения).
Для адаптации к деятельности в рамках норм и правил ВТО государству и бизнесу в соответствии с документам о присоединении отпущено семь лет. За это время государственные органы должны научиться строить промышленную политику так, чтобы она не противоречила принципам открытой и справедливой торговли, исповедуемым многосторонней торговой системой.
Следует иметь в виду, что договоренности о снижении тарифных ставок, достигавшиеся в рамках ГАТТ/ВТО, также как и односторонние меры отдельных правительств, направленные на облегчение режимов, не всегда и не во всем устраивали участников многосторонней торговой системы. Часть из них стремилась, как формулируют эксперты ВТО, «идти дальше и быстрее», чем это предусматривали обязательства в ГАТТ/ВТО. Результатом неудовлетворенности участников международной торговли масштабами и темпами многосторонней либерализации стал всплеск интереса к заключению региональных (двусторонних и многосторонних), а потом и трансконтинентальных соглашений об экономическом сотрудничестве, в том числе и выходящим за рамки соглашений ВТО по охвату областей взаимодействия. В ВТО они получили название региональных торговых соглашений – РТС. Членов ГАТТ также подталкивал пример опережающей либерализации торговли Европы, где последовательно и успешно осуществлялось продвижение по пути экономической интеграции.
В последнее десятилетие число РТС стало расти лавинообразно, не прекратившись и даже усилившись в период глобального кризиса. Связано это, помимо отмеченных выше причин, в том числе и с возрастающей остротой противоречий между ведущими странами, проявляющихся в ходе переговоров Дохийского раунда, утратой участниками переговоров уверенности в возможностях ВТО прийти к консенсусу в отношении содержания соглашений, которые намечалось принять по его итогам.
В целом за время существования многосторонней торговой системы в секретариат ГАТТ/ВТО поступило 546 нотификаций о заключении РТС, из которых 363 относятся к числу действующих (данные на начало 2013 г.). В этих соглашениях участвуют все члены ВТО, за исключением Монголии, каждый член ВТО входит в число участников примерно 13 соглашений.
Быстрое развитие сети региональных торговых соглашений закономерно привело к усилению их роли в международной торговле. Объем экспорта стран-участниц РТС на рынки партнеров по этим соглашениям в течение 1990–2008 г. рос быстрее, чем мировой экспорт в целом, а удельный вес внутрирегиональных поставок в общемировом экспорте увеличился за указанный период с 28 до 51 %, т. е. в 1,8 раза.
Отличительная особенность данных соглашений – их либерализационный характер, при котором два или более партнера предоставляют друг другу взаимные преференции. Среди нотифицированных и вступивших в силу преобладают соглашения о свободной торговле (58 % всех соглашений) и экономической интеграции (31 %). Заметно меньший удельный вес приходится на соглашения о таможенных союзах (7 %) и о либерализации условий торговли с частичным охватом товарной номенклатуры либо секторов экономики (4 %). При этом все соглашения, как отмечают эксперты ВТО, можно разделить на две условные группы. К первой из них относятся так называемые соглашения «ВТО плюс», в которых партнеры договорились о преференциях в областях, регламентируемых правилами ВТО (например, в отношении антидемпинга, компенсационных пошлин, технических барьеров, санитарных и фитосанитарных мер, деятельности государственных торговых предприятий и т. д., всего в 14 областях). Во вторую группу входят соглашения, в которых намечаются согласованные действия в сферах, не входящих в компетенцию ВТО, – политика конкуренции, движение капиталов, законодательство по охране окружающей среды, борьба с коррупцией и пр., всего 38 сфер. Они получили название «ВТО-Х».
Многие экономисты видят в РТС реальную угрозу многосторонней торговой системе, поскольку пересекающиеся и накладывающиеся друг на друга региональные соглашения образуют, по их мнению, так называемые «клубки спагетти», содержащие в себе зачатки хаоса.
В последние годы в развитии сети РТС проявляется новая тенденция. Идеология пространственно ограниченного регионализма, покоящаяся на классической теории международной интеграции Б. Балашши, перестает быть господствующей. Из 75 РТС, нотифицированных в ВТО в 2008–2009 гг., более половины составили межрегиональные, преимущественно трансконтинентальные РТС. Наибольшую активность в создании таких соглашений проявляют ЕС, ЕАСТ, страны ЮВА, США, Канада, которые ставят своей главной задачей достижение наибольшего эффекта от участия в таких формах интеграции в условиях посткризисных экономических трудностей.
При активном участии США идет подготовка детального проекта соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership, TPP). Завершить переговоры намечалось в 2013 г., однако они все еще продолжаются. Проект ТРР выстраивается не с нуля. Начало ему было положено четырьмя странами – Чили, Сингапуром, Новой Зеландией и Брунеем, которые в середине нулевых годов подписали соглашение о Транстихоокеанском стратегическом и экономическом партнерстве, предполагавшее улучшение условий для торговли и инвестиций, создание механизма разрешения спорных вопросов, взаимодействие в защите интеллектуальной собственности, сфере образования и пр. В 2009 г. к данной инициативе присоединились США, а затем Австралия, Перу, Вьетнам и Малайзия. На саммите АТЭС в Гонолулу (ноябрь 2011 г.) участники ТРР продекларировали общее стремление и дальше развивать избранный ими формат сотрудничества, позиционируя его как образец для будущих торговых соглашений не только между экономиками АТР, но и за пределами региона. Там же о готовности присоединиться к ТРР заявили Канада, Мексика и Япония.
Своеобразной ответной реакцией на создание Транстихоокеанского партнерства стала достигнутая на саммите стран Восточной Азии в Пномпене (ноябрь 2012 г.) договоренность о начале переговоров по созданию Всестороннего регионального экономического партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). В проектируемое объединение предполагают войти страны АСЕАН, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия, что позволит сформировать крупнейшую в мире зону свободной торговли. Переговоры намечается завершить к 2015 г.
Всего в обоих намечаемых соглашениях, которые можно пока рассматривать как в какой-то мере альтернативные проекты, насчитывается 28 участников, 7 из них задействованы в переговорах по тому и другому соглашению. Таким образом, ТРР и RCEP охватывают 21 страну, на долю которых приходится почти 42 % международной торговли. Вполне очевидно, что у участников того и другого проектируемых торговых блоков немало политических и экономических разногласий, в том числе и по конструкции ЗСТ, что оставляет открытым вопрос о завершении переговоров в намеченные сроки.
Подтверждением тенденции к глобализации РТС является начало в июле 2013 г. переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом о создании трансатлантической зоны свободной торговли (ТАЗСТ), призванной помочь европейскому и американскому бизнесу добиться успеха в глобальной конкуренции. В настоящее время на США и ЕС приходится половина мирового производства, объем их взаимной торговли товарами и услугами достигает почти 1 трлн долл. в год. Для Евросоюза США – главный рынок сбыта, а также третий по значению поставщик импортных товаров, для США Евросоюз – партнер номер один и как потребитель, и как поставщик разнообразной продукции. Соглашение о ЗСТ, как ожидается, позволит предпринимателям обоих регионов заметно снизить затраты, связанные с осуществлением торговых операций.
Разработка данных проектов в любом случае ускоряет движение мирового сообщества к совершенствованию действующих и внедрению выходящих за пределы компетенции ВТО норм и правил международной торговли. В результате формирования транстихоокеанской, восточноазиатской и трансатлантической зон свободной торговли сложится новая конфигурация мирового экономического пространства, на котором будет разворачиваться в ближайшие годы международный обмен.
При таком размахе торговли на преференциальных условиях важнейший принцип ВТО – режим наибольшего благоприятствования (РНБ, принцип равного отношения ко всем торговым партнерам) – все больше теряет свое значение как средство обеспечения недискриминации, а сами РТС выступают в качестве инструмента, ограничивающего конкуренцию на рынках участников соглашений для производителей тех стран, которые в соглашения не входят. Есть основания говорить о том, что этот главнейший принцип международной торговли начинает замещаться своей противоположностью – режимом наименьшего благоприятствования для стран, не являющихся участниками РТС.