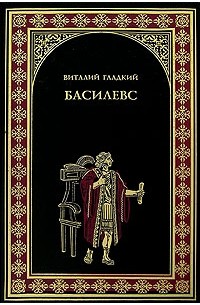Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 2
Царь Понта Митридат V Евергет с неизъяснимой тревогой в душе прислушивался к громким крикам своих гоплитов и грохоту обитых медью щитов, по которым они стучали мечами, приветствуя посольство Рима. Он стоял у одного из окон дворца, откуда открывался великолепный вид на гавань Синопы. Либурны римлян уже пришвартовались, и царь видел, как по сходням мерным шагом спускались на причал римские воины – охрана посольства. За их спинами нельзя было разглядеть легата, но Митридат Евергет знал со слов гонца, что это Марк Эмилий Скавр. И от того, что ему было известно об этом надменном римском патриции, невольная дрожь охватила царя – где появляется Скавр, жди войны…
Задумавшись, царь Понта не услышал тихих шагов начальника телохранителей, рослого галла с неимоверно широкими плечами. Только боковым зрением заметив человеческую фигуру в двух шагах от себя, Митридат Евергет повернулся и спросил:
– Что случилось, Арторикс?
– Стратег* Дорилай просит принять его.
– Зови, – оживился царь.
Перед предстоящим в скором времени отъездом на остров Крит стратег три дня назад отправился к своей рано овдовевшей сестре в город Амис*. После смерти ее мужа Филетайра он стал опекуном сына сестры, Дорилея, живущего вместе с ним в Синопе, которого стратег решил забрать с собой. Сестра хотела попрощаться с мальчиком, и Дорилай должен был привезти ее в столицу.
Стратег Дорилай, коренастый мужчина лет пятидесяти с коротко подстриженной курчавой бородкой и строго очерченным, почти квадратным лицом, словно высеченным из темного мрамора, неожиданно быстрым и легким для его лет шагом подошел к царю и поклонился. Митридат порывисто ступил ему навстречу и обнял – они были дружны с детства. Не говоря ни слова, царь подвел стратега к окну и показал на причал, где в этот момент взревели букцины* римских легионеров – легат Марк Эмилий Скавр ступил на землю Понта.
– Мне уже сообщили… – Дорилай задумчиво наблюдал за тяжелой четкой поступью римлян, плотной стеной окружавших носилки с легатом.
Посольство направлялось во дворец, где уже были приготовлены комнаты для Скавра и его свиты. Прием у царя был перенесен на более позднее время, под вечер, чтобы дать легату возможность отдохнуть с дороги и чтобы вечерняя прохлада остудила стены андрона*.
– Ничего неожиданного в его прибытии я не вижу, – лицо стратега было непроницаемо спокойным. – Когда-нибудь это должно было случиться.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Митридат Евергет, жестом приглашая стратега к столику с богато инкрустированной золотом и полудрагоценными камнями столешницей; на ней стояли кратер* с вином и фиалы*.
– Война с Римом, – просто ответил стратег, при этом на его лице не дрогнул ни один мускул.
– Страшные слова молвишь, Дорилай… – с горечью вздохнул царь.
Дорилай, за полководческие таланты прозванный Тактиком, воин, и поле брани для него – развернутый пергамент с легко читаемыми письменами. Но как прочитать ему, владыке Понта, замыслы надменных и бесцеремонных римлян, то, что они скрывают за семью печатями? То, от чего зависит само существование Понтийского государства? То, что он обязан предугадать, ибо царский жезл потяжелее меча, и нести эту нелегкую ношу его долг, его удел, наконец – его жизнь.
Митридат Евергет мысленно вознес молитву покровителю своего рода богу Дионису*. Что предначертано, да сбудется, все в воле богов…
– Нас принудят к этому, – Дорилай Тактик со свойственной ему проницательностью понял состояние царя; почувствовал и то, что Митридат в это мгновение нуждается, как никогда прежде, в поддержке и добром слове, дабы укрепить свой дух перед грядущими испытаниями. – Думаю, речь пойдет о Фригии. Покойный Марк Перперна, победитель Аристоника Пергамского*, в одной из бесед со мной прямо заявил, что присоединение Фригии к владениям Рима на Востоке – дело решенное. Тогда мы римлян опередили, использовав их затруднения – восстание Аристоника и его борьба за престол в Пергамском царстве* отняли у Рима немало сил и средств. Но теперь… Просто уступить Фригию мы не можем. Потому что одна, даже ничтожная, уступка повлечет за собой вторую, третью… И в конце концов Понту придется довольствоваться незавидной ролью разгребателя мусора на свалке, устроенной Римом.
– Что ты предлагаешь?
– Попытаться оттянуть, насколько это возможно, начало военных действий. Сил у нас вполне достаточно, чтобы ответить ударом на удар. И в Риме это знают. Но мы должны не только достойно встретить врага, но и победить его. Что неизмеримо труднее. И для этого нам крайне необходимо пополнить войско новыми, хорошо обученными гоплитами.
– Поэтому я и посылаю тебя на Крит.
– Мудрое решение, царь.
– Золота не жалей. Средств для вербовки наемников у тебя будет достаточно. Я распоряжусь, чтобы казначей дал столько, сколько ты попросишь. Но только не медли! Промедление сейчас смерти подобно.
– Знаю. Потому и назначил свой отъезд на завтра. Перед приходом сюда я попросил наварха* ускорить подготовку суден к отплытию.
– Хорошо. Я ему прикажу… – Митридат Евергет вдруг сник, ссутулился. – Но мне будет не хватать тебя, мой Дорилай. Сердце беду чует…
– Принеси жертвы богам. Наши судьбы покоятся на их коленях. Будем надеяться, что мойры* не оборвут свои нити преждевременно, по случайности.
– Иди… – царь с силой привлек к себе стратега, а затем слегка подтолкнул к выходу. – Я хочу побыть один. Перед твоим отплытием прощаться не будем – дурная примета. Надеюсь в скором времени увидеть тебя снова здесь, в Синопе.
Стратег сделал несколько шагов к двери, но вдруг резко остановился, будто натолкнулся на невидимую стену. Обернулся к царю и, от сильного волнения медленно, тяжело роняя слова, сказал:
– Прошу тебя, заклинаю всеми богами олимпийскими – остерегайся сумасбродств Лаодики. Она твоя жена, и я не вправе так говорить… Прости… Но ее приверженность Риму может принести и тебе лично, и Понту большие несчастья.
Тем более что есть не мало знатных людей в Синопе, которые думают так же, как и она. Еще раз – прости…
И Дорилай Тактик, поклонившись, стремительным шагом вышел из комнаты.
Митридат Евергет долго стоял в полной неподвижности, глядя ему вслед внезапно потускневшими глазами, словно смысл сказанного стратегом не дошел до его сознания. Лаодика… Сирийская царевна, дочь селевкидского* царя Антиоха Епифана… Из-за политических неудач она дважды была вынуждена бежать в Рим, где пользовалась покровительством Сената и имела обширные связи. Чтобы задобрить Рим, Митридату Евергету пришлось взять Лаодику в жены…
Царь, будто очнувшись, тряхнул головой и неверными шагами направился к двери. Но тут гримаса боли исказила черты его крупного скуластого лица, он судорожно схватился за сердце и с тихим стоном опустился на скамью, застеленную шкурой леопарда. Побелевшие губы царя зашевелились, послышался свистящий шепот:
– Люди… Лекаря… Митридат… Сын… Тебе царство… Ох!
Владыка Понта закрыл глаза, умолк, поникнув головой, и привалился к стене. За окнами послышались голоса, звон оружия – сменялась дворцовая стража…
Царица Лаодика вне себя от злости изо всех сил хлестала по щекам служанку-рабыню, которая нечаянно уронила на пол алабастр* с дорогими персидскими благовониями и разлила их. Служанка, стройная, смуглая галатка, старалась сдержать слезы – ее госпожа не терпела плакс.
Выдохшись, царица швырнула в голову растяпы пустой сосудик и приказала принести ларец с драгоценностями – она готовилась к торжественному приему легата Рима. Служанка, обрадованная, что так легко отделалась – даже за менее значительные проступки рабынь сажали в темный и сырой подземный эргастул* и беспощадно секли розгами, – опрометью выскочила из опочивальни царицы. И тут же возвратилась, чтобы шепнуть на ухо госпоже несколько слов.
– Пусть войдет… – Лаодика суетливыми движениями поправила растрепавшиеся волосы и отошла в тень, мельком посмотревшись в большое бронзовое зеркало.
Царица вступила в ту пору, когда прожитые годы еще не успели наложить на лицо свой безжалостный отпечаток настолько, чтобы его не могли скрыть мази и притирания. Но в ее фигуре уже появилась присущая зрелым матронам округлость и некоторая тяжеловесность, которую она тщилась скрыть под искусно скроенными и сшитыми одеждами, выгодно подчеркивающими только то, что хотела царица, и скрывающими некогда тонкую, а теперь располневшую, потерявшую гибкость талию. В молодости Лаодика была очень красива. Да и теперь большие выразительные глаза цвета перезрелой вишни, всегда влажные, как у гордой лани, сверкали остро и загадочно, заставляя мужчин не обращать внимания на едва заметные морщинки и не задумываться, сколько их еще скрыто под толстым слоем белил и румян, а только любоваться красотой, которая с годами приобрела некую откровенность, не свойственную целомудренной юности.
В гинекей* вошел высокий молодой человек с симпатичным, немного полноватым лицом. Карие глаза, обрамленные длинными густыми ресницами, буравчиками ввинтились в покрытые росписью стены, царапнули балдахин у ложа царицы. Увидев Лаодику, он быстро подошел к ней, опустился на одно колено и поцеловал край ее одежды.
– Приветствую тебя, о несравненная!
– Клеон… – с лица царицы окончательно схлынуло выражение гнева и раздражительности.
Она, как бы невзначай, прикоснулась узкой ладонью к мелким, густым кудряшкам на голове юноши и присела на скамью. Клеон расположился напротив.
– Почему ты уже неделю не появляешься во дворце? – спросила Лаодика с плохо скрытой ревностью.
– Прости, о лучезарная… – Клеон с мольбой сложил руки на груди. – На то были веские причины.
– Какие… причины? – в голосе царицы зазвенел металл.
– Я ездил в свой хорион*… – Юноша заерзал на скамье, стараясь уклониться от требовательного взгляда Лаодики.
– Зачем?
– Давно не был. Управляющий просил приехать… – Клеон смутился и умолк, потупившись.
– Давно? По-моему, в прошлом месяце, – царицей постепенно овладевал гнев.
– Да, но…
– Ты хочешь сказать, что твой управляющий не в состоянии сам навести порядок в хорионе? – перебила его Лаодика. – И ты настолько сведущ в земледелии, что можешь чем-либо ему помочь? Ложь! Клеон! Видят боги, мое терпение не безгранично! – Она вскочила, дрожа от негодования; поднялся и Клеон.
– Скажи, скажи мне правду! – требовала царица, все больше и больше распаляясь и наступая на юношу; под ее натиском он прижался спиной к стене и попытался поцеловать протянутую в гневном жесте руку Лаодики.
– Ты…! – неожиданная пощечина обожгла щеку Клеона.
Совершенно не помня себя, царица схватила его за плечи и стала трясти с силой, которую никак нельзя было угадать в довольно хрупкой с виду женщине.
– Неблагодарный! Неверный! – Лаодика в гневе стала похожа на эриннию*: черные длинные волосы рассыпались по плечам, бешеные глаза метали молнии, лицо исказила гримаса ярости.
Клеон в страхе рухнул на колени. Бормоча что-то нечленораздельное, он стал целовать ее украшенные драгоценными камнями сандалии, белоснежную столу*, обшитую понизу золотым аграмантом*.
– Иеродулы* храма Афродиты Пандемос* – вот настоящая причина твоего отсутствия!
– О нет, нет! – наконец к юноше вернулся дар речи. – Прости меня! О владетельница моих грез, я все тебе расскажу. Мне нужны были деньги. Очень нужны. И срочно.
– Неужто тебе недостаточно моих подарков? А если и так, то почему ты не сказал мне об этом?
– Нужна большая сумма.
– Зачем?
– Я… задолжал ростовщику.
– Кому?
– Римлянину Макробию. Восемь дней назад он предъявил мои долговые расписки и потребовал уплаты. Я просил об отсрочке, но Макробий был неумолим.
– Управляющий собрал необходимую сумму? – Царица нерешительно положила руку на плечо коленопреклоненного юноши.
– Нет. У него не набралось и трети. Я в отчаянии. Если хорион продадут с торгов за долги, я стану нищим.
– Сколько ты должен Макробию?
Клеон, немного поколебавшись, сказал.
– Так много? – удивилась царица, постепенно успокаиваясь.
– Сегодня, с заходом солнца, истекает последний срок… – Юноша обречено уронил голову на грудь. – Мне ничего иного не остается, как продать себя в гоплиты. Только так можно сохранить хорион.
– Нужно подумать… – Лаодика запустила пальцы в густые волосы Клеона и ласково потрепала. – Сядь. Нет, не туда. Рядом… – прислонилась тесно; ощутив его горячее молодое тело, затрепетала, задышала часто, прерывисто: «Клеон… Ах…»
Но юноша не обращал внимания на взволнованную царицу. Он сидел безучастно, неподвижно, хмуро уставившись в мозаичный пол. В его позе чувствовалась настороженность, смешанная с обидой.
Лаодика вздохнула про себя виновато: «Поделом мне…» Крепко сжала его руку и заговорила вполголоса:
– Не печалься. Доверься мне. Деньги у тебя будут. Завтра, – она опередила вопрос, готовый слететь с губ юноши. – Вечером прием римского посольства, и я обязана быть там.
Денежные дела я веду обычно сама. Да и Марк Север не захочет иметь дело с посредником, тем более – слугой. Обидится…
Марк Север, как и его соотечественник Авл Порций Туберон, купил в Синопе дом, обставил его с немыслимой роскошью. Все свои торговые операции он передоверил компаньону-синопцу и теперь услаждал себе жизнь пирами и гетерами*. Царица Лаодика, которой он оказывал помощь еще в Риме, пользовалась у него неограниченным кредитом.
– А Макробий подождет. Я ему напишу. Сейчас же… – Лаодика позвала служанку и приказала принести письменные принадлежности…
Второй сын царя Понта, Хрест, худощавый высокий мальчик, лицом похожий на мать, необычайно серьезный и замкнутый, пристроился возле окна просторной детской комнаты дворца с пергаментным свитком в руках. Он читал сочинение по истории Сфера Боспорского*.
Неподалеку его сестры Ниса, Роксана и Статира под надзором няньки, пожилой, степенной матроны, учились вышивать. Занятие это было откровенно скучным, поэтому девочки не столько прилежно накладывали стежки на ткань, сколько дурачились и хихикали. В конце концов няньке надоело их увещевать, и она подсела к самой младшей дочери Митридата Евергета, шестилетней Лаодике. Хрупкая и тихая нравом девочка старательно выводила остро заточенным стилосом* на вощеной дощечке пока еще не совсем красивые буквы – ее уже начали учить читать и писать.
Тем временем солнце перешагнуло полуденную черту и все больше клонилось к закату. Северный ветер пригнал облака, пока еще пушистые, светлые, но горизонт над морем потемнел, нахмурился – где-то там, в морских далях, вызревало ненастье. Дети с нетерпением стали поглядывать на дверь – ждали, когда появятся слуги с парадной одеждой, чтобы нарядиться и вместе с родителями отправиться на прием римского легата.
Наконец пришел дворцовый ойконом* со свитой из служанок, и дети с их помощью начали обряжаться в богато затканные золотой нитью наряды, в покрое которых больше просматривался персидский стиль, нежели эллинский или римский.
Вскоре в детскую зашла и царица-мать с раскрасневшимися ланитами, взволнованная и немного рассеянная. Мимоходом погладив по головке рыжеволосую сероглазку Нису и чмокнув в щечку пухленькую Роксану, она занялась Хрестом – нежно потрепала сына за ухо и что-то шепнула, от чего он растянул свои тонкие губы в торжествующей улыбке. Причина его радости стала понятна, когда в детскую внесли великолепный персидский акинак*, реликвию Понтийских царей – наследство деда Фарнака. До сих пор акинак вместе с другим оружием висел на стене андрона, но сегодня мать подарила его Хресту по случаю предстоящего царского выхода.
И только когда акинак прицепили к златокованому поясу царевича, Лаодика заметила отсутствие Митридата.
– Где твой брат? – обратилась она к Хресту.
– Спроси у ветра, – беззаботно ответил тот, любуясь волнистой голубизной клинка и пробуя пальцем остроту лезвия. – Наверное, опять собрал толпу полунищего демоса* и затеял какую-нибудь игру. Фи, – наморщил нос царевич, – от него так скверно пахнет, когда он возвращается после своих забав.
– Я ведь ему запретила! – разгневалась царица-мать. – Мерзкий мальчишка! Где Гордий? – спросила у няньки.
Та молча пожала плечами – держала во рту булавки, которыми крепила пышные и необычайно красивые русые волосы Лаодики-младшей.
Царица вспыхнула, накричала на служанок, подвернувшихся под руку, и неизвестно, что еще могла бы натворить во гневе, переполняющим ее, но в этот миг на пороге детской появился Митридат. Спокойным взглядом окинув собравшихся, он сдержанно поклонился матери и молча направился в угол, где на скамье лежала его одежда.
– Где ты был? – заступила ему дорогу царица.
– Купался, – коротко ответил Митридат.
– Я тебе запрещаю – слышишь, запрещаю! – без моего ведома покидать дворец. Сыну царя Понта не пристало слоняться по улицам Синопы со всяким сбродом.
– Мои друзья не сброд, – возразил Митридат довольно миролюбиво. – Сегодня я был с Гаем, сыном наварха Гермайи, и племянником мудрого Дорилая Тактика.
Но, вместе того чтобы успокоиться и удовлетвориться учтивым объяснением обычно строптивого сына, Лаодика еще больше вскипятилась: стратег Дорилай не принадлежал к кругу ее друзей и почитателей. Скорее наоборот – наушники из числа придворной знати не раз докладывали царице, что Дорилай Тактик весьма неодобрительно отзывался о ее тесных связях с Римом.
– Ты… ты смеешь со мной пререкаться?! Все твои друзья – сброд, сброд, сброд! И поди вон отсюда, вымойся как следует – от тебя разит конюшней.
Возможно, Митридат и сдержался бы от резкого ответа, но тут ему на глаза попался Хрест – он подошел поближе и с вызывающим видом поигрывал дедовским акинаком. Митридат понял, что эта реликвия, которая должна была принадлежать ему по праву старшинства как прямому наследнику престола, перешла в руки брата, нелюбимого им за двуличный нрав.
Вспыхнув, Митридат надменно выпятил подбородок и, медленно роняя слова в густую, настороженную тишину детской, сказал:
– Я предпочитаю запахи конюшни тем персидским благовониям, коими некто пользуется, дабы прослыть неотразимым покорителем женских сердец.
Царица окаменела. Они стоят друг против друга такие непохожие внешне (Митридат был вылитый отец) и такие схожие характерами: сын – сверкая янтарными всполохами дерзких глаз, а мать – потерявшая дар речи от ярости.
Лаодика поняла более чем прозрачный намек сына, как и ойконом, едва не упавший без чувств в ожидании грозы – к благовониям питал слабость Клеон. О его отношениях с царицей знали почти все придворные, за исключением царя. Впрочем, в мысли повелителя Понта проникнуть не дано было никому, а его поступки всегда отличались непредсказуемостью.
Но гроза так и не разразилась: ни на кого не глядя, с высоко поднятой головой, царица вышла из детской.
Митридат, недобро взглянув на Хреста, после ухода матери сразу растерявшего весь свой гонор и поспешившего спрятаться за спину толстяка-ойконома, стал неторопливо одеваться. Ему помогал Гордий, верный слуга и оруженосец – служанкам царевич запрещал прикасаться к своей одежде. Он считал, что негоже воину уподобляться женоподобным и изнеженным прожигателям жизни. А таких водилось немало среди отпрысков понтийской знати. Они пытались подражать роскошествующим римским патрициям, при этом забывая, что и ратный труд для римлян был обыденным и обязательным.