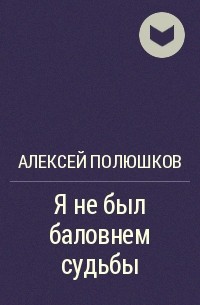Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть I
Глава I. Из семьи кустарей
Родился я в марте 1915 года в деревне Поповка Вачского района Нижегородской области в семье кустарей. Хозяином дома, как тогда велось, был мой дед Дмитрий Евстратович. А основал семейное дело мой прадед Евстрат Егорович Полюшков, чьи дела шли очень успешно. Работал он на поставщиков Императорского дома братьев Брабец и на Роберта Кепца в Москве.
Семья прадеда по меркам XIX века была маленькой: два сына и дочь, поэтому жили они обеспеченно. Имели в деревне три дома и мастерскую по производству ножей и вилок.
Производство унаследовал дед, а его брат занимался коммерческими делами и служил по найму. У деда семья была уже больше: четыре сына и три дочери. Все они, в свою очередь, тоже создали свои семьи. В настоящее время они все уже умерли, а потомки, те, что еще живы, рассыпались по странам. В деревне никого не осталось, но в Вачском районе еще проживает несколько семей нашего рода.
Не знаю почему, то ли из-за сокращения производства вследствие пожара в начале XX века, а то ли из-за большого числа детей, семья деда жила беднее семьи прадеда, который одно время даже числился фабрикантом. Основные моменты жизни моих предков я узнал из оставшихся документов и разговоров, которые вели с нами родные и родители. Говорили о предках с большими оговорками, чтобы мы, дети, много не болтали. А ведь если нет повторов и напоминаний, то все постепенно забывается. Вот так мы и выросли Иванами, родства не помнящими! А теперь приходится призывать к восстановлению наших генеалогических корней, что сделать очень трудно, так как мало кто сохранил документы и воспоминания, а еще меньше таких, кто собирал их. Можно было оказаться неправильно понятым и упрятанным туда, где память отбивали начисто…
Мой отец Григорий Дмитриевич Полюшков родился в 1888 году в Поповке. Когда он учился в школе, перенес дифтерит, после которого потерял слух, поэтому после третьего класса школу бросил и начал работать в мастерской отца, где проявил большую сноровку. Уже в молодые годы он в совершенстве владел всеми навыками изготовления ножей и вилок, кроме ковки и шлифовки. Эти операции выполнялись по договору другими кустарями.
В 1906 году мой будущий отец пошел работать по найму на фабрику В. Д. Кондратова, где освоил профессию слесаря по штампам. Позднее он возвращался к работе со своим отцом, а потом трудился слесарем по штампам у фабриканта М. И. Теребина в Павлове. После революции отец нанимался на заводы Вачского района, а потом – на заводы Нижнего Новгорода. Последние годы, до самой смерти в 1949 году, он работал на Горьковском автозаводе.
Моя мать Надежда Алексеевна родилась в 1891 году в Поповке в крестьянской семье Спиряковых. Всю жизнь была домохозяйкой и вырастила шестерых детей – меня и пятерых сестер: Клавдию, Веру, Пульхерию, Маргариту, Фаину. Три мои сестры окончили институты. Вера стала врачом, Пульхерия – учителем, Фаина – экономистом на железнодорожном транспорте. Сестра-врач погибла на войне в 1943 году.
Сестры Вера и Клавдия.
Алексей Григорьевич с сестрами Маргаритой, Пульхерией, Фаиной и мамой Надеждой Алексеевной.
Жизнь моих сестер протекала, как и у всех трудовых людей, без особых удовольствий, но и трудностей им досталось не больше, чем остальным. И только сестре Маргарите выпала тяжелая доля. Перед самой войной, в четырнадцать лет, она заболела язвой желудка и так подорвала здоровье за время войны, что потом страдала всю жизнь от всяких болезней, какие только могут настичь человека. Но, несмотря на это, она продолжает жить и помогает воспитывать детей своим дочерям.
Род по материнской линии у нас достаточно ветвистый, и в нем было более мужского пола, но многие из мужчин не вернулись с войны. Другие разъехались по свету, и в деревне из них практически никого не осталось, кроме одного дома, да и тот уже опустел в 1995 году. По аналогичной причине я плохо знаю судьбу некоторых моих родственников и по линии отца.
Деревня наша бедна землей, и поэтому люди были вынуждены заниматься подсобным промыслом, в основном производством металлических изделий: ножей, вилок, ложек, замков и других инструментов.
В деревнях, расположенных ближе к Оке, занимались производством сундуков, которые развозились по всем базарам и ярмаркам России. Народ в основном жил неплохо, так как участвовал в товарном производстве и торговле. В наших районах (Вача, Павлово) народ не носил лаптей, а одежда соответствовала моде того времени. Конечно, это доставалось большим трудом, поэтому в семье мужчины чаще всего занимались производством и работали круглый год, а сельским хозяйством занимались женщины и дети. Суммирование доходов позволяло поддерживать уровень жизни на приемлемом уровне.
Карта окрестностей деревни Поповка Вачского района Нижегородской области.
В литературе прошлого века, например у В. Г. Короленко или В. А. Слепцова, отмечалась высокая степень эксплуатации на предприятиях Павловского и Вачского районов. Но в книгах нет того обстоятельства, что районы эти находились в фазе первоначального накопления, когда имеет место нищета. То есть при низком уровне развития производственных сил невозможно обеспечить богатую жизнь.
Картины жизни народа в период нарождающегося промышленного производства весьма похожи как в российских селах Ваче или Павлове, так и в Англии, и в других странах. До революции и после нее, вплоть до тридцатых годов, на территории Вачского района проживало более шестидесяти тысяч человек населения, а теперь, после переустройств и «совершенствований», на тех же землях, испытывая большие трудности, проживает около тридцати тысяч. Многие из жителей продолжают уезжать!
Этот результат неплохо бы учитывать при наведении нового порядка. Остается надеяться только на механизмы свободного рынка. В период НЭПа, например, район был жизнеспособен, ведь в каждом селении нарождались новые кустари и собирались артели, а народ жил без таких проблем, какие переживают советские люди, начиная с тридцатых годов и по нынешнее время. Уровень культуры в районе сейчас поднялся, но это следствие общего подъема, нельзя же идти к дикости в условиях общего прогресса в мире!
Параллельно с общим прогрессом в районе процветают все извращения быта: пьянство, разводы, хулиганство, воровство и прочие «прелести» социалистического общества. Раньше человек мог идти домой из соседних селений спокойно, зная, что его никто не тронет, если нет у него персональных врагов, а теперь его могут избить и отнять последнее, если на его пути попадутся злые хулиганы.
Вследствие уменьшения необходимости связей между соседями они сильно ослабли, так как объем хозяйственных работ, выполняемых на своем участке, резко упал, после того как личные земли перешли во владение колхозам.
Молодежь уезжает из деревень в города, население постарело, ушли в прошлое веселые гулянья парней и девок в деревне и сборы в зимние вечера по домам. Все это привело к проявлению сепарации семейств и ослаблению их связей. Все стали более уверены в своих силах…
Все эти изменения проходили под лозунгом зарождения новой деревни с новым, более высоким культурным уровнем, а привели они к потере старых деревенских традиций и к появлению малопривлекательного конгломерата сельских жителей, потерявших интерес к настоящей сельской жизни, обновленной в соответствии с духом нового времени. Эти обстоятельства являются одной из основных причин и источников развала, имеющего место в сельском хозяйстве страны.
Мое детство прошло в очень тяжелое для России время, и о нем не очень хочется писать, так как бедствия людей малопривлекательны. И, к сожалению, как показывает исторический опыт, не так уж и поучительны. Из них почему-то делается мало выводов на будущее. А поскольку эти годы я помню смутно, то и воспоминания о них будут кратки.
В Гражданскую войну мне запомнились тревожные разговоры взрослых о бунте в Муроме, который был нашим уездным городом. Насколько я помню, симпатии были на стороне преследуемых.
Значительно лучше помню мучения моих родителей, ищущих хлеб для троих малых детей. Трудности усиливались тем обстоятельством, что хозяйство деда находилось в деревне, но производством сельхозпродуктов мы не занимались. Жили на доходы от кустарного производства, а своих запасов продовольствия не имели, и покупать на рынке было нечего. Моей матери приходилось ездить по районам в округе двести-триста километров и своими силами привозить то, что она смогла добыть. На железных дорогах часто отбирали то, что ей удавалось выменять.
Муки голода я помню до сих пор. Помню радость, когда мать возвращалась из поездок… Помню, как на улицах детей подкармливали продуктами, доставленными из-за границы. Во дворах, около дорог варили обеды и кормили детей прямо на улице, где были накрыты столы и лавки. Но это было не так уж часто, не повсеместно.
После революции был передел земель. А так как земли в деревне от революции не прибыло, а на нас смотрели косо из-за продажи прадедом своего надела в соседнее село, то нам дали надел на полтора или два едока. Но в семье нас было пятеро, поэтому мы до самого отъезда из деревни в 1931 году испытывали трудности. Позже нам все же дали надел на пять человек, но в это время у нас было уже восемь едоков. Положение усугублялось тем, что наделы в нашей деревне были маленькими.
В период экономических трудностей отцу пришлось уйти из семейства деда, и к прочим трудностям прибавилась проблема жилья, которую удалось решить за счет покупки верхней половины дома на приданое матери. Хорошо, что в это время с нами был отец, который, по причине глухоты, в армию не был призван. Но он испытывал трудности с трудоустройством, так как тогда заводы почти не работали, а других видов заработка не находилось.
Стало полегче лишь в начале 1920-х годов, когда начало восстанавливаться производство и отец устроился на работу в артель по изготовлению ножей и вилок. В это время появился постоянный доход, и мы стали бодро смотреть в будущее.
Несмотря на тяжелое время, мы, дети – две сестры ия, – не очень унывали и играли в основном между собой дома, а в теплое время на улице. Зимой нас не пускали гулять, боясь простуды, и я часто и подолгу смотрел в окно, наблюдая за тем, что происходило на улице.
В 1921 году моя старшая сестра пошла в школу, а меня стали выпускать на улицу кататься на санках. В конце года отец сделал для меня лыжи, и я стал кататься на лыжах.
Наш дом стоял у начала склона горы, а с другой стороны расстилалось поле, спускающееся в долину к большим горам. Это давало возможность кататься в соответствии с собственным умением, которое росло довольно быстро. В это время я уже подружился с соседским парнем Сашей, который был на два года старше и потому служил для меня образцом удали и ловкости.
В этот период мы еще испытывали трудности с пропитанием, и меня мать посылала то нарвать с деревьев семян, то собрать травы, годной в пищу. Эти эксперименты скоро прекратились, так как из них ничего путного не получалось: попробовав приготовить то или иное растение, мы выбрасывали его из-за несъедобности и ждали, когда на огороде, а затем и в поле вырастут другие травы или семена, пригодные для еды.
Несколько позже мы переехали в дом, где у соседей было две девочки примерно нашего возраста, и мы стали вместе играть, так как появилась возможность бегать друг к другу без верхней одежды. Наши занятия и игры были довольно примитивными и ограниченными, так как тогда почти никаких игрушек в продаже не было. Играли с тем, что осталось от дореволюционных времен, или с тем, что изготовили мы сами или наши родители. Несмотря на примитивность быта, мы все же были счастливы, как могут быть счастливы только дети.
А вот скудость питания запомнилась на всю жизнь, так как очень часто кормили нас щами «с потолком», сваренными из воды, приправленной щавелем, луком и картошкой с морковкой. Щи были светлыми и прозрачными, и в них отражался потолок. На второе давали немного картошки или каши, слегка смазанных растительным маслом. И так ежедневно на протяжении нескольких лет.
Несмотря на экономические трудности и голод, я испытывал большую тягу к знаниям и в 1921 году в возрасте шести лет пошел в школу, благо ее открыли в соседнем доме, в котором мы впоследствии поселились.
Из-за недостатка учителей, учебных пособий и школьных принадлежностей школа была вскоре закрыта. Мне пришлось ждать следующего года, и тогда я пошел в школу соседнего села. Но меня вновь вернули домой, так как мне не было восьми лет. Самое досадное было то, что и в 1923 году, когда мне исполнилось восемь, меня в ту же самую школу не приняли и даже не объяснили почему. Пришлось идти в соседнюю деревню Городищи, где тоже была школа.
Школа в Городищах, работала вплоть до 2010 года.
Школьное здание было типовым, каких в начале века в России построили очень много. Там было два класса, жилье учителя и учительская. Занятия проводились в большом классе, где находились ученики первого и третьего классов. Уроки вел один учитель, одновременно для всех. Он занимался преимущественно с первым классом, а третьеклашкам давал задания, и они занимались самостоятельно.
В середине учебного года прибыла молодая учительница, которая приняла первый класс, и мы стали заниматься отдельно. Третий класс приходил на занятия во вторую смену. Это было удобно учителю, так как он был и директором школы и ему в то тяжелое время приходилось уделять много внимания тому, чтобы занятия в школе проходили в нормальных условиях. То есть требовались учебники, школьные принадлежности и тепло в здании. Тетради тогда выдавали в очень ограниченном количестве, и нам приходилось мобилизовать все семейные и прочие источники, чтобы раздобыть любой бумаги для черновиков и домашних заданий. Чернила мы делали из химических карандашей, коры деревьев, ягод дуба и прочих материалов, оставляющих след на бумаге. Основным средством письма был карандаш.
В 1924 году в школу стал приезжать человек из торгового кооператива. Он продавал нам тетради, карандаши, резинки, чернила. Сначала в нормированном и не совсем достаточном количестве, а затем столько, сколько надо. А после мы сами покупали необходимое в магазине кооператива. Но так стало лишь в конце 1924 или в начале 1925 года.
Снабжение книгами шло с еще большими трудностями, и первые два года мы учились по учебникам, сохранившимся в школе от дореволюционного периода. Нам выдавали одну книгу на двоих, троих, а то и больше учеников. Это, естественно, создавало много трудностей. Позднее наладили снабжение книгами как через школу, так и через продажу в магазинах. Тогда мы почувствовали себя настоящими учениками.
В образовательных учреждениях вводилось идейно-просветительское воспитание, это находило отражение и в составе коллектива учителей. В начальной школе у нас мало говорилось о смысле революции, так как мы были еще малы. Сильно сказывалось домашнее влияние, которое в большей части семей было далеко не революционным. Учителя, будучи выходцами из более обеспеченного круга, не очень усердствовали в нашем политическом воспитании.
В 1927 году, закончив школу первой ступени, я был аполитичным и во многом даже настроенным враждебно к нынешней власти, так как окружавшая меня среда, как дома, так и на улице, тоже была в значительной мере аполитична. Справедливости ради должен сказать, что, наряду с вышеуказанной особенностью нашей подготовки, общеобразовательную программу нам дали вполне приличную, так как к 1925 году в школе сформировался хороший коллектив преподавателей, возглавляемый отличным директором школы Виталием Ивановичем Патрикеевым, который дал нам очень много полезных для жизни знаний. Неслучайно, что на экзаменах при поступлении в пятый класс, которые проводились в очень строгой обстановке вследствие нехватки мест в школах волости, ученики нашего выпуска показали себя лучше учеников других школ и наших выпускников было принято больше, чем из других школ.
Пока я учился в школе первой ступени, семья опять испытала экономические трудности. В 1925 году отец был приглашен на работу к кустарю, где была хорошая зарплата, но через год с небольшим, когда в стране появились фабричные вилки и ножи, кустарь прогорел, а отец оказался безработным. Устроиться на работу было трудно, так как в период работы у кустаря отец выбыл из профсоюза, а таких работников принимали в последнюю очередь. Пришлось прибегнуть к помощи брата отца, и в сентябре 1927 года отцу удалось устроиться в Нижнем Новгороде на временную работу, на которой он задержался, так как показал себя мастером высшего класса. Так появилась основа для будущего переселения в город.
Об учебе в начальной школе у меня сохранилось довольно много воспоминаний, так как я был активным мальчиком. Классы по большей части состояли из детей старше меня на два-три года. А во втором классе к нам пришел мальчик на пять лет старше. Он был небольшого роста, но крепкого телосложения, что вызывало у нас зависть и уважение, все мы хотели быть такими же здоровыми и уверенными в себе. Но пока не получалось.
Первые два класса нас учила молодая красивая учительница Марья Михайловна, жена директора школы. Они жили в школе, у них рос маленький сын, и она всегда была в хлопотах о нем, а помощи ей не было, кроме как от мужа.
Учила она нас неспокойно, так как сама была издергана неустроенным бытом. Это отражалось и на нас. Иногда Марья Михайловна прибегала к физическому воздействию: если мы не слушались, она силой выталкивала провинившегося ученика из класса. Знаний нам она дала мало, так как учебников в достаточном количестве не было, канцелярских и школьных пособий не хватало, да и опытом и желанием учить она не страдала. В этом отношении учительница сильно отличалась от своего мужа, который был знающим и опытным учителем. Проучившись два года, мы научились читать, считать, писать, но делали это плохо, то есть читали без понятия и выражения, писали кое-как, то есть почерки у нас были ужасные. Тому способствовал и недостаток тетрадей с разлиновкой в тридцать две линии с косыми линиями.
Единственное, что запомнилось и, на мой взгляд, было хорошо, – это то, что Марья Михайловна задавала нам учить каждую неделю стихи и требовала выполнения своего задания. Какой стих учить, она не указывала, да это и было трудно сделать, так как книг для чтения у нас не было, поэтому мы все учили то, что нам нравилось. На уроках она заставляла читать выученные стихи наизусть. Хорошие стихи и выразительное чтение поощряла похвалой. Этот метод привил нам любовь к стихам, урок превращался в соревнование – кто прочтет стихотворение длиннее и лучше. В свою очередь, это развивало и укрепляло память детей.
Когда она ушла, мы о ней не сожалели, а принявший нас новый директор школы Виталий Иванович был поражен уровнем нашего обучения. На уроках чтения он подолгу объяснял нам, как надо читать тексты с учетом знаков препинания и смысла написанного. И к концу третьего класса мы все читали вполне прилично.
Плохой почерк учеников Виталий Иванович исправлял, заставляя нас два или три раза в неделю на протяжении всей учебной четверти оставаться после уроков и писать прописи в тетрадях. Это были трехлинейные прописи с косой линией, но в основном с двумя строчками и косой. Безоговорочная и суровая требовательность, проявляемая по отношению к нам Марьей Михайловной, помогла Виталию Ивановичу, тоже требовательному и упорному человеку, вести эти уроки, встречая большое старание с нашей стороны. Уроки не пропали даром. Диктанты, написанные нами в конце третьего класса, выглядели вполне удовлетворительно с точки зрения каллиграфии, а многие ученики писали просто прекрасно – четко и без помарок.
После двух-трех лет обучения часть учеников покинула школу. Некоторые ушли по причине экономических условий с учетом, что им уже исполнилось по 15–16 лет, другие – просто в силу старых традиций, которые тогда еще были сильны. Считалось, что много учиться, особенно девочкам, ни к чему, пусть их привлекают к помощи по хозяйству.
Тем не менее кончали мы школу полным составом, так как в четвертом классе пришло много учеников для повторного обучения, с тем чтобы вернее достичь успеха на экзаменах для поступления в школу второй ступени.
Учеба в четвертом классе шла интенсивнее, чем в третьем, так как ученики более серьезно подходили к ней, а учителю хотелось, чтобы мы вышли из школы хорошо подготовленными и всесторонне образованными людьми, разумеется в пределах начальной ступени обучения.
У меня с учителем была стычка, в которой я проявил упорство, а учитель проявил еще большую настойчивость и исключил меня из школы за недисциплинированность. Я не помню подробности, кроме того, что две недели не ходил в школу, а проводил время в слесарной мастерской, в которой раньше работал мой отец и где меня все знали. Потом это дошло до отца, который тогда работал у кустаря и там же жил. Он в школу сходить не мог, поэтому устроил мне взбучку и написал письмо директору школы, после которого наши отношения с учителем постепенно стали вполне нормальными. Я чувствовал себя неправым в этой стычке, но не мог поступиться «принципом», и требовался толчок, который я и получил – по заслугам!
Помню, что в классе ученики были дружны, но случались и исключения, которые не всегда являются свидетельством дурного воспитания, так как бывает, что даже доносы носят принципиальный характер.
В первых двух классах мы не получили достаточного воспитания, и многие начали курить табак, сквернословить и прочее. В начале обучения в третьем классе учитель настолько умело подошел к ученикам, что они открыли ему всю неприглядность нашего поведения. Получив эти сведения, он, не выдавая источники информации, так цепко ухватился за нарушителей режима и за хулиганов, что в течение примерно месяца мы все бросили курить и сквернословить, да так, что к этим привычкам большая часть учеников не вернулась и позже. Я лично – за эту меру, которая не отразилась на ком-либо персональным наказанием. Был тогда и остался благодарен учителю до сих пор.
Заряд, который дал нам Виталий Иванович за два года обучения, отразился весьма положительно на нас, и значительная часть его учеников, окончивших школу, вышли в люди. Они стали кто специалистами, кто хозяйственными и политическими деятелями, а кто и просто порядочными людьми, что уже немало. Многие из нас до сих пор с благодарностью вспоминают учителя за его беседы, экскурсии, где он объяснял доступным для нас образом окружающий мир, природу, общество, а на уроках обстоятельно и доступно давал знания согласно школьной программе.
Друзья по школе были друзьями и по деревне. Первым таким другом был Саша Полюшков, с которым мы учились с первого класса по седьмой и все эти годы были самыми неразлучными друзьями. Мы постоянно друг друга навещали, летом вместе гуляли по лугам и лесам, а зимой вместе катались на лыжах. Наша дружба продолжается и до настоящего времени, когда мы оба стали стариками. Он рос сиротой, так как его отец после Гражданской войны не вернулся домой и лишь позднее был как-то обнаружен в городе Омске, где он завел новую семью и так там и остался. По зову отца Саша с братом уехали было в 1930 году к нему в Омск, но жизнь в чужой семье им не понравилась, и они вернулись домой, потеряв при этом два года обучения в школе, что не помешало им впоследствии окончить институты.
В деревне были друзья из соседних домов. Например, Саша, который был на два года старше меня и учился на класс раньше. Он осиротел в 1924 году, после чего стал серьезным и стал меньше играть со мной, а до этого по-соседски мы проводили почти все время вместе – то у них, то у нас. Наша дружба продолжалась до отъезда нашей семьи из деревни, а после не смогла восстановиться, так как Саша погиб на войне.
Напротив меня жил Костя Вахромов, который пошел в школу на год раньше меня, а с четвертого класса мы уже учились вместе. Мы были очень дружны, вместе гуляли, катались на лыжах. В 1930 году Костя поступил учиться в Павловский индустриальный техникум, после которого вернулся в деревню и работал в Ваче на заводе в качестве мастера, а также заместителем начальника, начальником цеха, председателем завкома, и несколько лет до ухода на пенсию работал начальником первого отдела завода. В то время, пока Костя служил в армии, я учился в институте, и мы с ним виделись очень часто, так как воинская часть, где он служил, была недалеко от общежития, где я тогда жил.
Окончание школы второй ступени. Фото со школьными друзьями: Костя Вахромов, Иван Вавилов, Алексей Полюшков.
Несмотря на значительное расстояние, которое разделяет места нашего постоянного жительства, дружба сохраняется до сих пор, тем более что с 1982 года я ежегодно провожу лето в деревне и мы видимся часто, так что теперь дружба поддерживается за счет личных контактов. В 1993 году с большой радостью мы отметили его восьмидесятилетие.
Другим соседом был Саша Раков, который учился со мной в четвертом классе. Мы с ним часто встречались дома, так как у него были гармонь и гитара. Я увлекался игрой на гитаре, а он играл на гармони. Вместе с Костей Вахромовым Саша окончил павловский техникум, затем вернулся домой и работал в Ваче на заводе. Последнее время был главным механиком завода, а затем больше двадцати лет Саша находился на пенсии. Прожил он до восьмидесяти восьми лет.
В новосельскую школу из нашей деревни ходило четыре человека, остальные ребята пошли в вачскую школу. Сколько их там было, не помню. Новосельская школа была более престижной, так как там был высококвалифицированный и спаянный педагогический коллектив, почти все учителя с высшим образованием. Поэтому из Вачи в Новоселки ходили учиться в наш класс человек пять-шесть, несмотря на то что им приходилось идти пешком около четырех километров. В последующие годы из Вачи в Новоселки дети больше не ходили, так как был взят курс на превращение вачской школы в центральную школу района.
Среди друзей по школе особо хочу отметить Ваню Вавилова из Новоселок. Он выходец из культурной семьи. Его отец был председателем правления Новосельского кооператива, прожил долгую (девяносто лет) жизнь. Все его дети получили образование, из семьи вышли инженер-строитель, два врача, две учительницы. А Ваня, можно сказать, совершил подвиг. Я не знаю, когда он перенес полиомиелит, но в шестом классе мой друг уже был инвалидом. Он всегда серьезно относился к учебе и имел в этом деле постоянный успех. После семилетки Ваня закончил рабфак при мединституте и позже – институт. Был приглашен на кафедру нервных болезней, но отказался от приглашения и уехал в Новоселки, где начал врачебную практику. Практика проходила с большим успехом. Он довольно быстро стал главным врачом, а позднее ему было присвоено звание заслуженного врача РСФСР.
Он ушел на пенсию сразу же, как исполнилось шестьдесят лет, но и по истечении двадцати лет Иван Вавилов пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Его четыре дочери тоже стали врачами, продолжили династию.
Мы с Ваней поддерживали дружеские связи все прошлые годы и до настоящего времени. Он, как и я, ежегодно живет в деревне, где мы и встречаемся. Я радуюсь, что такой человек сохранил себя, семью и остается очень добросердечным другом, хотя и уже больным. Но это терпимо для восьмидесяти лет.
Из девочек ближе всех я знал Катю Вавилову, из того же рода, что и Ваня, но из друзей семьи, а также Веру Преображенскую. Катя была высокая, полная девочка, очень дружелюбная. Происходила она из семьи каких-то коммерсантов, за что их даже чуть не репрессировали, но учли, что эта большая семья дала району несколько преподавателей и инженеров. Их отпустили и больше не преследовали. Она окончила педагогический техникум и тоже пошла в учителя.
Вера Преображенская была дочерью дьякона. Их церковь была при погосте, поэтому она выросла в узком кругу, среди небольшого числа людей, была несколько замкнутой и молчаливой. Эти качества в девочке усиливались и той травлей, которая велась по отношению к духовенству. Вера была очень порядочной и доброжелательной христианкой. Красивой, всегда аккуратно и хорошо одетой. Мы с ней много раз разговаривали, так как учились в одной группе-бригаде и сидели за одним столом. В нашей бригаде была и Катя. Вера окончила промышленно-экономический техникум, расположенный в Нижнем или в Павлове – не помню точно.