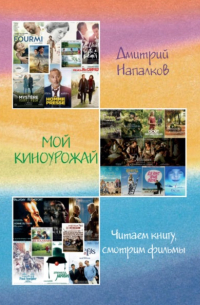Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Новый кинотеатр «Парадизо»
Почему кино быстро завоевало популярность в конце XIX века несмотря на то, что братья Люмьер задумывали его всего лишь как «балаганное шоу»? Почему до сих пор многие ищут это самое «своё кино», чтобы подпитаться мыслями и эмоциями? По-видимому, кинематограф вобрал в себя всё лучшее, что могут предложить различные виды искусства, которые человечество бережно несёт с собой через века.
«Ожившие картины» создают эффект присутствия, полного погружения и позволяют путешествовать по миру. Это живопись. Саундтреки к фильмам – совершенно особая составляющая, сделавшая, например, мелодии маэстро Эннио Морриконе («Новый кинотеатр «Парадизо» и «У них всё хорошо») узнаваемыми не меньше, чем произведения Моцарта и Баха. Это музыка. Идеи, заложенные в фильмах, которые от скетчей времён немого кино выросли в полноценные экранизации известных произведений или оригинальных киносценариев. Это литература. Любое литературное произведение можно прочитать вслух, но каждый ли способен сделать это выразительно и убедительно? Нет. Поэтому и появились актёры, которые делают историю достоверной и заставляют нас в неё верить. На киноэкране они разыгрывают перед нами пьесу, ведомые режиссёрами и специалистами по сценографии и звуку. Это театр. А темнота, фокусирующая внимание на экране, и сопереживание участников коллективного просмотра создают у меня в голове образ старика-рассказчика, вокруг которого сидят несколько поколений молодых, в то время как он своей историей, где-то правдой, а где-то выдумкой наполняет их головы интересными мыслями, а сердца – добрыми чувствами. Это сказки, которые мы все любили слушать в детстве.
Человечество испокон веков любит истории и ищет разные способы передавать их из поколения в поколение. И за последний век оно научилось записывать их сначала на киноплёнку, а теперь, к моему глубокому удивлению, все фильмы коллекции «КИНОУРОЖАЙ» умещаются на флэшку и занимают относительно небольшой объём памяти на Яндекс-диске. Возможности делиться всем этим у нас сейчас несравненно больше, чем у тех, кто рассказывал эти истории, сидя у костра в окружении первых слушателей/зрителей.
В моей семье не было людей из мира искусства – я появился на свет в семье врачей. Но с самого детства у нас в большом почёте были кинопросмотры, когда мы все вместе собирались у экрана чёрно-белого телевизора. Самым большим любителем кино был мой дедушка – Николай Леонтьевич, который ходил со мной на бесчисленное число мультиков и детских фильмов. Из кинотеатров того времени мне, пожалуй, вспоминается один… Он располагался неподалёку от нашей дачи, о который я уже говорил выше, и добраться до него было не так легко. Дом культуры, в котором «крутили кино», находился на территории дачного посёлка членов ЦК КПСС (местные называли их «цэковскими дачами»). Его окружал длинный и высокий каменный забор, в котором была маленькая проходная. Если охранник отлучался, то можно было войти внутрь. С самого начала мы уже ощущали себя правонарушителями, и это, безусловно, придавало происходящему привкус авантюры, столь необходимой для проживания яркого и насыщенного детства. Затем нужно было пройти по густому сосновому бору, в котором без всяких заборов соседствовали друг с другом деревянные одноэтажные домики. А минут через десять ты попадал на опушку леса, где располагались магазин, детская площадка и дом культуры, где показывали кино. Честно говоря, я плохо помню фильмы, которые мы тогда смотрели, но я сохранил в памяти ощущение всегда заполненного зрителями зала и совершенно иной реальности, царящей на экране. После полного погружения в кинофильм, вынырнув наружу после сеанса, нужно было снова с таким же невозмутимым видом пройти по территории и выйти через проходную за забор. Летом смеркалось поздно, лучи закатного солнца пробивались сквозь сосны, а я ещё долго думал о том, что только что увидел на волшебном экране…
Может, именно тогда потихоньку и зародилась в моей голове идея стать актёром, которая, хоть и частично, но смогла реализоваться. Сначала я пробовал себя в школе в различных спектаклях на историческую и литературную тему, но это было только начало. Мне хотелось не только исполнять роли, но и выбирать сюжеты для постановок. И вот в 1996-м во время обучения в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова (сейчас – Сеченовский Университет) мне удалось создать свой театр. Вернее, дело было так: я решил осуществить постановку «Тартюфа» Жан-Батиста Мольера, а наш декан, мой наставник, академик Сергей Витальевич Грачёв постепенно подвёл меня к мысли о том, чтобы назвать однократный перфоманс первым спектаклем студенческого театра факультета подготовки научно-педагогических кадров (ФПНПК), для которого я придумал французское по звучанию название – «Абажур». В качестве режиссёра (не забывая и об актёрской работе) я поставил ещё два спектакля: «Оскар» – моя сценарная адаптация одноимённого фильма с Сильвестром Сталлоне в главной роли, в основе которой лежала французская пьеса Клода Манье, и пьеса «Чествование» по Бернарду Слэйду. Смотреть сегодня в записи эти постановки забавно и неловко, но с них всё начиналось…
А в 2000 году произошло событие, которое послужило важным мостиком для моего перехода на другой уровень сценического искусства – совместный проект с театром «Комедиантъ» при Благотворительном фонде «Фарватер» Валерия Золотухина. Это был музыкальный спектакль «Кафе исполненной мечты», в котором участвовало ретро-трио «Сувенир» (мы с Владимиром Булатовым и Светланой Поповой), а также актёры недавно созданного «Комедианта», который много лет возглавляли Алёна Чубарова и Ирина Егорова. Премьера состоялась на сцене Центрального дома работников искусств, что мне, привыкшему только к институтским площадкам, не очень подходящих для театральных показов, казалось уровнем Кремлёвского дворца съездов. Жанр музыкального спектакля, действие которого происходит во французском кафе, в 2000 году в стране, тяжело переживавшей экономический кризис, не был особенно актуален, поэтому после трёх премьер всё и закончилось (хотя несколько модифицированный спектакль просуществовал ещё какое-то время под названием «Кафе «Комедиантъ»). А дальше для меня началась настоящая театральная эпоха в «Комедианте» с серьёзными репетициями, обучением актёрскому ремеслу по ходу дела и «вприглядку», чего, конечно, я не мог получить в своём студенческом театре. Мне самому пришлось пройти тяжёлую проверку на честолюбие. Имея за спиной три режиссёрские постановки, причём, как мне казалось, вполне успешные, я полагал, что многое делаю интуитивно правильно. Когда же я стал получать замечания от профессиональных актёров и режиссёров, прошло немало времени, прежде чем я понял, что это не просто придирки, а ценные советы, которым нужно следовать. Огромный опыт, полученный в «Комедианте», я использую в жизни и по сей день, когда читаю лекции врачам, студентам, веду приём пациентов, да и просто общаюсь с людьми.
Фильм «Новый кинотеатр «Парадизо» также рассказывает о влиянии близких нам людей на выбор, который мы делаем в своей жизни. Если главный герой фильма стал известным кинорежиссёром, то я – никому не известным кинопродюсером, зато своей собственной коллекции озвученных на русский язык французских фильмов. И, если в том, кем стал Сальваторе, колоссальную роль сыграл киномеханик Альфредо, то в моей судьбе большую роль сыграла моя мама, которая в своё время уберегла меня от двух опрометчивых шагов. Можно сколь угодно долго рассуждать на тему того, что родители, как сейчас считают многие, вообще не должны вмешиваться в путь, выбираемый детьми, лишь оказывая им всестороннюю поддержку во всём. Так-то оно так, но всё же… Я очень благодарен маме, по которой скучаю каждый день, прожитый без неё, за то, что она дважды удержала меня от иной реальности.
Первый раз это случилось, когда я всерьёз решил «штурмовать» ГИТИС или ВГИК, чтобы стать актёром. Мы много говорили об этом, она ходила на мои спектакли, видела, как я «горю» актёрским ремеслом. Но как-то она произнесла то, что заставило меня всерьёз и надолго задуматься: «Ты же понимаешь, что у тебя есть талант. Но таких талантливых очень много, а кто-то гораздо талантливее тебя. Представь себя лет через двадцать. Ты мечтаешь играть главные роли, а у тебя будет всего несколько выходов на театральную сцену или эпизод в кино, где ты будешь говорить: «Кушать подано!» Не допускаешь такого развития событий?» И я, не умеющий и не любящий ставить всё на карту, предпочёл выбрать другой маршрут: я поступил в медицинский вуз, стал врачом и преподавателем, а параллельно играл в театре.
Второй раз это произошло, когда, будучи никому не известным ассистентом кафедры, только защитившим кандидатскую диссертацию, я подрабатывал ночными переводами фильмов с английского языка и спарринг-партнёром по теннису для своих знакомых, чтобы заработать на жизнь после рождения старшей дочери. Я сидел в своём кабинете, не видя перед собой особых перспектив. Мой научный руководитель, профессор Валерий Иванович Подзолков, за которого я голосовал, проиграл выборы заведующего кафедрой профессору Виталию Андреевичу Сулимову, и вся его команда, включая меня, попала в опалу. Вызвав меня к себе, Виталий Андреевич без обиняков предупредил меня, что я теперь «играю с жёлтой карточкой», хотя мне до сих пор неясно, кто именно «донёс» на меня – ведь голосование было тайным. Такое вот «тайное поимённое» голосование. Находиться в оппозиции и сидеть без денег – сомнительное удовольствие: ни идейного, ни материального стимула. И тут знакомые пригласили меня в одну из ведущих зарубежных фармацевтических компаний, причём сразу на должность медицинского советника. По самым скромным оценкам, уровень моих доходов должен был возрасти в 5 раз. Жена Татьяна, совместно с которой мы с трудом сводили концы с концами, была очень воодушевлена предполагаемой сменой моей работы, а вот мама выступила резко против. Она считала, что я не должен бросать клиническую медицину и, более того, просто обязан защитить докторскую диссертацию – то, что в своё время не удалось сделать ей самой. «Ты потом решишь, чем именно будешь заниматься, но выбор у тебя будет куда больше, если ты не забросишь всё это сейчас». Помню, что несколько дней я напряжённо взвешивал все «за» и «против», и лишь накануне заключительного собеседования, в положительном исходе которого меня уже фактически заверили, позвонил и отказался от этого соблазнительного и финансового интересного предложения. Я не хотел разочаровывать маму, а ещё, наверное, доверился её чутью.
Она была права, хотя и не могла разбираться в нюансах. Кажется, ключевым негативным моментом для меня было то, что работа «от звонка до звонка» (с 9 до 18) автоматически должна была вышвырнуть из моей жизни всё творчество. Я на все 100 процентов стал бы «винтиком» системы, против чего я боролся и продолжаю бороться всю свою жизнь. Что было бы со мной сейчас, если бы я не послушал маминого совета? У меня есть живой пример перед глазами – хороший знакомый, который построил свою карьеру в фармбизнесе. Я бы потерял себя, своё лицо, свою независимость. Всё, что бы я ни делал, что бы ни планировал, перед каким бы выбором меня не ставила моя карьера, всё бы взвешивалось исключительно сквозь призму материального благополучия. Со временем, я бы начал мыслить по-другому, мои интересы бы почти обнулились. Никакого театра, никаких киноколлекций больше бы не было. В лучшем случае меня бы хватало на то, чтобы после изнурительной работы в офисе и бесконечной череды командировок заснуть через несколько минут после начала просмотра какого-нибудь второсортного фильма, который я бы пытался осилить вечером за бокалом вина. Так, по инерции, уже и не желая особенно смотреть это самое кино…
Тогда я даже немного злился на маму, считал, что она не понимает, через какие испытания мне приходится проходить. А сегодня я очень благодарен ей за то, что она не либеральничала со мной: она не ставила условий и не шантажировала меня, но ей удалось убедить меня в уязвимости моей наспех созданной теории дальнейшего развития. Тогда, в 2006 году, благодаря ей я не свернул со своего пути, который привёл меня туда, где я нахожусь теперь, и позволяет мне оставаться независимым, насколько это возможно, так как абсолютной независимости, как известно, не бывает. Столько сыгранных спектаклей, столько озвученных фильмов! И самое главное – я дожил до возможности зарабатывать на своё собственное творчество, а значит самостоятельно решать, что делать, а что нет. При всей неоднозначности и гипотетически упущенных возможностях, не это ли называется творческой свободой?
Краткое содержание фильма. Только что умер Альфредо… Это известие заставляет знаменитого режиссёра Сальваторе Ди Вита вспомнить свою прежнюю жизнь. Когда-то, много лет назад, его звали Тото. Всё свободное время он проводил в церкви, где прислуживал местному священнику, и в деревенском кинотеатре, где в будке киномеханика царил Альфредо…
Автор сценария и режиссёр – Джузеппе Торнаторе. В главных ролях: Филипп Нуаре и Жак Перрен. Премьера в Италии – 17 ноября 1988 г., премьера во Франции – 20 сентября 1989 г. Для коллекции «КИНОУРОЖАЙ» на русский язык фильм озвучивали: Геннадий Новиков и Анна Левина. Режиссёр озвучания – Михаил Степанков. Улучшенный перевод и продюсер проекта – Дмитрий Напалков.
«Жизнь не такая, какой ты её видел в кино. Жизнь гораздо сложнее. Уезжай! Возвращайся в Рим! Ты молод, мир принадлежит тебе! А я стар. И не хочу слышать, что ты говоришь. Я хочу слышать, что говорят о тебе».