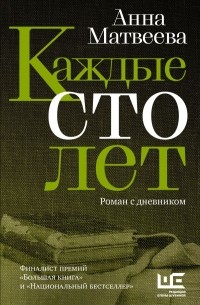Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Сестра
Папина записная книжка хранится у него в комнате, рядом с телефоном. Чёрная, с полустёртым словом «Алфавит» на обложке. Он никогда не прятал от меня эту книжку, но, конечно, ему не понравилось бы, что я её взяла.
Вчера, когда папы не было дома, я открыла книжку на вырезанной ступенькой букве «С» и нашла запись – «Соргина Александра Петровна, тел. дом. 28-44-39». Ниже был ещё один, зачёркнутый номер – «Д1-06-88». Буквами обозначались старые свердловские номера. Значит, папа был давно знаком с Александрой Петровной, может, ещё до того, как она пришла работать в музей. Может, он её и устроил в музей – по блату? Эта мысль, шевельнувшаяся внутри, была такой гадкой, что меня передёрнуло, как при виде вытащенной наружу диванной начинки, похожей на испачканные облака. (Иногда мне приходят на ум такие странные сравнения, что я должна записать их в дневнике. Или хотя бы вставить в сочинение, чужое или своё. Чтобы не пропали!)
Я очень скучаю по отцу – и по тому времени, когда я ничего не знала про Танечку. Идея найти её стала казаться глупой, особенно сейчас, во время экзаменов за восьмой класс! Завтра, например, мы сдаём русский устно, а я вместо того, чтобы повторять правила или хотя бы писать шпаргалки, пытаюсь найти совсем незнакомую девочку… Адреса в книжке, к сожалению, не было, но когда я пролистала её внимательно ещё раз, то обнаружила заложенный между страницами бумажный клочок, где было записано карандашом: ул. Волгоградская, 190-26. И никаких пояснений! Может, здесь и живёт Танечка со своей мамой, видеть которую мне нисколько не хотелось?
День стоял прохладный. Я вытащила из шкафа клетчатую фланелевую рубашку, на которой не хватает одной пуговицы, надела, закатав рукава. Светлые брюки, которые мама зовёт неприятным словом «чесучовые» (от него так и тянет почесаться), теннисные тапочки, слегка пожелтевшие с прошлого года. Носить мне совершенно нечего, но это никого не волнует. Волосы я забрала в хвост и спрятала под довольно дурацкую велосипедную кепку с прозрачным козырьком. Теперь главное – не встретить никого из нормальных людей по дороге, хотя, скорее всего, они бы меня в таком виде просто не узнали!
Между гаражами на Белореченской я случайно наступила на канализационный люк – крышка лежала неплотно, грохотнула, и мне пришлось отскочить в сторону. Там, на дорожке, убегавшей в кусты, лежало серебряное кольцо с лиловым камнем. Оправа в завитках.
Есть такая примета, что нельзя примерять чужие кольца, мне об этом рассказывала Варя. Будто бы с чужим кольцом на палец переходят чужие грехи. Интересно, а почему они не переходят, когда мы примеряем одежду друг друга? Варя с Имановой даже лифчиками менялись, когда Имановой понадобилась телесная «анжелика»!
В общем, я подняла кольцо и положила его в карман. Сейчас оно лежит, спрятанное в верхнем ящике стола, где у меня место ссылки для всех сомнительных предметов. Кольцо, думаю, дорогое – местами почернелое, а камень выпуклый и слегка треснутый. Похож на аметист или александрит.
До Танечкиного дома я дошла за пятнадцать минут. На трамвае было бы ещё быстрее, но мне хотелось пройти эту дорогу. Почему-то это было важно.
Дом как две капли воды походил на мой, такая же длинная серая пятиэтажка. Все эти юго-западные дома похожи друг на друга и ещё – на грубые картонные коробки из-под «Уралобуви». Второй подъезд, третий этаж, белые шторы, открытая форточка затянута сеткой от комаров. Под окнами набирающая цвет сирень и клумба, разбитая внутри старого автомобильного колеса: из неё пёрли вверх жёсткие зелёные конусы.
Входная дверь в квартиру Соргиных была обита мягким материалом и украшена декоративными гвоздиками, звонок пел мелодию «К Элизе». В самый последний момент, когда Танечка уже открывала замки (не спросив, кто там, и даже не поглядев в глазок!), я стащила с головы кепку и сунула её в карман.
Первое, что я замечаю в чужих домах, – это запахи. У нас дома пахнет книжной пылью. У Вари – растворимым кофе и пастой Теймурова, которой её мама мажет подмышки. У Таракановых – бабой Фросей. А здесь, в квартире Танечки и Александры Петровны, пахло моим папой: его рубашками, нотами, любимым чёрным чаем… Я чуть не снесла с дороги Танечку, так захотелось мне войти в эту запасную, дополнительную папину жизнь! Она удивлённо моргала, мы стояли в коридоре, пока я не догадалась сказать:
– Знаешь, кто я? Твоя сестра!
Танечка молча посторонилась. Она, видимо, только что пришла из школы и ещё не успела переодеться. Школьное платье было у неё не коричневое, а бордовое, цвета варёной свёклы. На груди комсомольский значок, фартук отглажен, оборки топорщатся, как новенькие. Ноги при этом голые – ни колготок, ни гольфов. Может, я её как раз отвлекла от переодевания?
Танечка молчала, и я тоже не знала, с чего начинать разговор. Вспомнила мамин совет: если не знаешь, что сказать, говори что-нибудь нейтральное.
– Ты в десятом учишься?
– В девятом.
– Везёт!
– Почему это?
– Ну, тебе не надо в этом году экзамены сдавать.
Я говорила это и думала: значит, Танечкин год рождения лежит между нашими с братом. Сначала родился Димка, потом Танечка, после – я.
– А отец знает, что ты здесь? – спросила Танечка.
– Нет, конечно, и ты ему не говори ни в коем случае!
– Почему это? – снова спросила сестра. Её любимое выражение подходило, скорее, Таракановой.
Я не знала, как ей всё объяснить, и мы какое-то время молча сидели на софе, угрюмо разглядывая друг друга. А я ещё и косилась по сторонам.
Комната, куда Танечка меня привела, очень напоминала нашу гостиную – такие же полки, сколоченные папой, тот же телевизор и даже пианино «Этюд». На крышке пианино, с левой стороны – стопка нот. Точно как у нас дома.
– Ты играешь? – спросила я.
– И я, и отец, – ответила она и сразу же стала ужасно неприятной. Какое право она имела называть моего папу отцом? Почему она вообще существует, зачем сидит здесь, дышит, смотрит в окно? Если бы не было этой Танечки, моя жизнь была бы счастливой, как раньше. А теперь я так запуталась, что ниткам мулине не снилось… Я совсем позабыла, что пришла сюда не выяснять отношения с Танечкой, а потому, что мне нужно было кому-то довериться, рассказать про Бланкеннагель, про Димку и Княжну, про все эти сложности, которые вдруг на меня свалились. Теперь мне казалось, что я должна всё высказать этой самозваной сестре, должна отомстить ей за мою маму (пусть даже мама ничего не знает – когда-нибудь всё равно догадается!).
Мне до сих пор стыдно того, что случилось после.
Я хотела ударить Танечку по лицу, но вместо этого просто заревела, как маленькая девочка. И тогда Танечка вдруг притянула меня к себе, стала гладить по голове и повторять «ш-ш-ш», как говорят совсем маленьким детям. А я из-за этого ещё сильнее расплакалась, потому что даже сквозь слёзы понимала, какие мы с ней разные и насколько она меня лучше, добрее, взрослее. И, к несчастью, красивее.
Всё-таки чем-то мы были похожи, это сходство проявлялось не в чертах лица, а в каких-то движениях, жестах, поворотах головы. Я смотрела на Танечку, как она ходит по комнате, как поправляет бретельку фартука, как протягивает мне носовой платок, а потом достаёт из буфета чайные чашки с рисунком, и видела словно бы своё собственное мелькание в зеркале.
– Сейчас чай будем пить, – объявила Танечка. – Но сперва я всё-таки переоденусь.
Она скрылась в соседней комнате, а я тихонько подошла к письменному столу, над которым висели полки, и стала рассматривать книжные корешки. Всё те же справочники по геологии и минералогии, которые стояли у нас дома и казались мне невозможно скучными. В историях, которые папа рассказывал мне во время наших прогулок или перед сном, минералы и руды были живыми: они рождались глубоко в земле, пили воду, распускались самоцветными букетами, приносили богатства одним людям и горе другим. Бедные мастеровые находили золотые слитки, но алчные хозяева заводов отбирали их, а мастеровых избивали плетьми до полусмерти.
Интересно, рассказывал ли папа Танечке про «гнилой камень» рапакиви? Путала ли она в детстве, как я, слова «слюда» и «слюна», смеялся ли отец над этой ошибкой? Разглядывала ли с отцом мою любимую карту полезных ископаемых Урала, где длинная горная змея испещрена геометрическими фигурами: золото – круг из двух половин, чёрной и белой, а торф – три кирпича, походящих на олимпийский пьедестал? Есть ли у неё деревянная шкатулка с приклеенной этикеткой «Коллекция шлиховых минералов»? Эту шкатулку папа подарил мне к десятилетию. Она раскрывается на две половины: в одной лежат прелестные маленькие пробирки, заткнутые пробочками, в другой – пронумерованные выемки, на дне которых написаны чёрной тушью названия: андалузит, берилл, биотит, барит, вольфрамит, гранат, золото (моя гордость!) и так далее по алфавиту до сфена, турмалина и флюорита. В каждой пробирке хранятся образцы, напоминающие то песок, то каменную мелочь, то простую пыль. Не хотелось бы видеть у Танечки такую же точно шкатулку, но… всё-таки она имела на неё право. Тем более у неё не только папа в музее работает, но и мама.
Танечка вышла из комнаты в коротких спортивных брюках и носках-джурабах, и я тут же вспомнила, как мечтала о таких ярких носках с орнаментом и как мама всего за одну ночь связала их для меня! Мне так жаль стало маму, что слёзы снова выступили на глазах, и Танечка нахмурилась:
– Ты всё время такая плаксивая? Знаешь, ведь это мне надо плакать, что отец живёт с вами, а не со мной! Мама говорит, они раньше познакомились, чем с Верой Петровной, и, если бы Вера Петровна не забеременела…
Тут Танечка тоже чуть было не заплакала, но в последний момент всё-таки сдержалась, только носом шмыгнула. У неё гораздо более сильный, чем у меня, характер, а впрочем, она ведь старше на целый год. И, оказывается, знает имя и отчество моей мамы! А вот мама даже не подозревает о существовании Танечки и думает, что Александра Петровна – просто какая-то коллега по музею. Всё теперь было ещё хуже, чем раньше. Непонятно, почему я думала, что мне станет легче после знакомства с Танечкой, – наверно, я просто очень хотела с ней познакомиться и пыталась найти для этого причины.
– Кстати, ты слышала про маньяка? – спросила вдруг Танечка. – Отец так боялся за меня, что чуть ли не каждый вечер проверял, когда я домой вернулась. Всё-таки хорошо, что его поймали!
– Никого они не поймали! Ты ничего об этом не знаешь!
– А ты, конечно, знаешь!
– Да. Вот увидишь, скоро найдут ещё одну жертву! И у неё будет немецкая фамилия!
На этих словах я вылетела из квартиры опешившей Танечки и сбежала вниз по ступенькам. Потом, успокоившись, пошла быстрым шагом. Запоминала бетонные плиты во дворе, вздыбившиеся, как айсберги. Запоминала голубей на крыше гаража – неподвижные, будто их посадили на клей. Одни, с бензиновым ожерельем вокруг шеи, были сизыми, как свежий асфальт, другие – конопатыми, в ржавых перьях. Всё это – чужое и ненавистное, но в то же время родное и знакомое – нужно было запомнить для того, чтобы никогда сюда больше не возвращаться, достаточно будет вызвать в памяти сегодняшнюю картинку: книги, Танечка в джурабах, голуби…
И, пожалуй, хватит на сегодня. У меня рука болит, мозоль на пальце, и в тетради осталось всего три страницы. Но сама я при этом совсем не устала, мне даже стало легче.
Прямо посреди ночи нам домой позвонил следователь Василий Михайлович. Завтра днём, сразу после экзамена, я должна буду опознавать подозреваемого. Василий Михайлович сказал, что они задержали соответствующего моим описаниям человека.