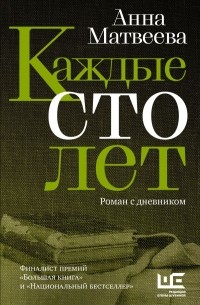Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Истории»
Воистину, у моего дневника есть незримый покровитель: стоило мне завершить воспоминания о прошлом нашей семьи и уткнуться, будто в тупиковую стену, в сегодняшний день, как подоспели свежие, пусть и очень невесёлые события. Описывать их труднее, чем сцены из прошлых лет; многое нелегко выговорить. Но я решила сделать это, и теперь произойдёт то, о чём я давно мечтаю. Мой дневник станет именно дневником, а не летописью. Я предполагаю ловить каждый день, как бабочку, и оставлять на этих страницах свидетельства о разных событиях, важных и незначительных в равной степени.
Я почти не рассказывала о том, что отец мой болен, прежде всего потому, что не могла себе самой в этом признаться. Мне всё казалось, что это пройдёт, что однажды я проснусь поутру и услышу его весёлый голос, но нет, такого больше не случится, да и я сама не могу более отстраняться от наших семейных проблем. Мама и Геня называют их просто – «истории».
Папа тяжело переживал, что нам так и не удалось пробиться в высший круг полтавского общества. Денег у нас немного, жениха Геничке не получается приискать… Ни фруктового сада, ни домика, о котором он так мечтал в Польше, – ничего не сбылось, не случилось. Папа стал хандрить, больше не ездит с мамой в гости, вдруг постарел. Дома дышит почти нормально, а выходя на улицу, начинает дышать так шумно, что прохожие оглядываются; мама считает, что у него астма, но пояснять, что это такое, не спешит. Ночами у него бессонница.
Меня «истории» прежде не касались, они бушевали где-то далеко, в кабинете. Раньше гнев отца возбуждался от протеста Евгении или от четвёрки, полученной братом; теперь же он вспыхивает от всякого пустяка, и я – с недавних пор – полноправная участница событий. Подоплёки, причины многих «историй» я не всегда знаю – застаю уже их разгар: внезапное появление взрослых в гостиной, расстроенное лицо мамы, взбешённое – Гени, наступающие движения отца, стремление матери уйти от перепалки и увести Евгению, склонённая над чертежом голова брата, его застывшее бледное лицо. А у мамы в такие моменты лицо каменное. Обязанности свои она выполняет деловито и невозмутимо, но её спокойный голос тоже звучит как вызов. И через некоторое время разражается скандал. Иногда, начавшись очень бурно, он сам по себе утихает, но гораздо чаще после «истории» следует длительный период отцовского гнева-молчания. В таких случаях он выходит из кабинета только для приёма пищи, ни на кого не глядит, ни с кем не разговаривает, не подпускает к руке детей и даже меня отталкивает; раньше я этого пугалась, потому что не понимала, в чём провинилась, теперь же привыкла. А в доме наступает душная тишина.
«Историй» в нашем доме все боятся, потому что никто не знает, когда очередная закончится, во что выльется. Изредка её удаётся предупредить – звучит взволнованный голос сестры, мамы или брата: «Не надо говорить об этом папе, будет “история”».
Предвидеть, что раздражит отца, а что покажется ничтожным, я долго не умела. На Пасху мы как-то были с ним вместе: папа сидел на скамье у крылечка, а я сбегала с крыльца на тротуар и обратно. Был очень сухой, тёплый день, мне дозволили выйти в одном платье, и я чувствовала себя легко, свободно. По нашей обычно тихой улице шли с Подола принаряженные, весёлые люди. «Светлый праздник», – сказал кто-то из них, и мне пришла в голову глупая мысль, которую я к чему-то озвучила:
– Папа! Вот сегодня как хорошо и светло, и все говорят: «Светлый праздник». А если бы было пасмурно или дождь? Тогда был бы тёмный праздник?
Отец рассвирепел, начал меня бранить и сердиться, что я, его дочь, говорю глупости. Даже не просто глупости, а что-то ужасное, позорящее и меня, и его, и всю семью. Он дошёл до крика, потом быстро вошёл в дом, накричал на маму и скрылся в кабинете. А мама выбежала на крыльцо, увела меня домой и тоже отругала за то, что суюсь к отцу с глупостями и сейчас выйдет «история».
После одной «истории» мама и Геничка стояли с нахмуренными лицами в гостиной, а отец говорил с большим жаром, несколько раз упомянув слово «честность». Заметив меня, подозвал и сказал проникновенно:
– Помни, Ксеничка, что надо быть честной. Тебя к этому обязывает твоё происхождение. Ты не простая девочка, а столбовая дворянка по Шестой книге.
Я же вспомнила не о своих замечательных предках, но о словах, давно сказанных мне мамой по случаю: «Что ты дворянка – это правда. Но это случайность. Ты родилась в дворянской семье, а могла бы родиться у крестьянки или нищенки и была бы тогда крестьянкой или нищенкой. Предки твои давно умерли, и думать о них не стоит. И никакая ты не особенная. Пред лицом Бога все люди и все маленькие девочки равны».
Как это сложно – увязать два родительских мнения в одно, когда они противоположны…
«Истории» случаются всё чаще и чаще. Успокоение приносит нам разве что прибытие гостей. За завтраком и обедом все сидим в гнетущей атмосфере, как вдруг – звонок. Отец оживляется, мама становится любезной, и даже после, когда гости уходят, сохраняется лёгкость, шутливый тон. Недавно в самый разгар «истории» под вечер приехали две дамы, М. и N. Отец вышел к ним, мама несколько задержалась. Я сделала реверанс и остановилась у кресла отца.
N. – она была моложе, говорливая, весёлая – обратила на меня внимание, приласкала, похвалила мои косы:
– Боже! Как она на вас походит! Копия! – И обратилась к отцу: – Это ваша любимица? Ведь правда?
Отец улыбнулся и кивнул в знак согласия.
– А ты? – N. схватила меня за руки, притянула к себе и воззрилась прямо в глаза. – Говори правду! Кого больше любишь, папу или маму?
Я растерялась. Никто раньше таких вопросов мне не задавал и спасительного ответа «одинаково» не подсказывал. Тут я и увидела лицо отца. Он глядел на меня и ждал ответа. Лицо его было таким напряжённым, как будто от этого ответа зависело что-то очень важное для него, жизненно важное! Этот взгляд заставил меня прошептать:
– Папу.
N. засмеялась, захлопала в ладоши:
– Так и знала, так и знала!
Папино лицо просветлело, как будто огромная тяжесть спала. Он обнял меня, и в этот миг я увидела маму – она давно вошла в гостиную и всё слышала. Я уловила в её лице что-то никогда раньше не виданное: оно исказилось, стало злым. И тогда я поняла, что сказала неправду. Я просто струсила, мама была мне дороже.
Гости ушли, ушёл и отец. Мама стояла у окна и безучастно смотрела на улицу.
Я подошла к ней:
– Мама, не сердись, я ведь тебя тоже очень, очень люблю.
Она поглядела на меня всё тем же холодным взглядом:
– Ничего! Ничего! Так и надо. Ты правильно поступила. Ложись спать.
Но я долго не могла уснуть и горько плакала в постели. Мне было жаль маму и жаль себя. Я не понимала, как могла сказать неправду, и подумала: а что, если я маму действительно не люблю? Ведь если бы я по-настоящему любила, разве бы я от этого отказалась?
Тогда я с ужасом впервые почувствовала то, в чём готова признаться: я никого не люблю – ни папу, ни маму. От любви становится радостно, светло, хочется обнять, приласкаться. Но у меня нет и не было ни малейшего желания обнимать или ласкаться к отцу или матери.
Не сомневаюсь, что родители меня любят. Виною всему лишь моя чёрствость.