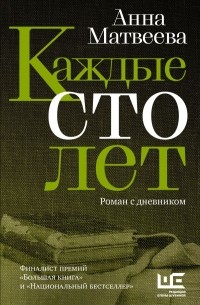Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Галантерея-Трикотаж»
Если папа узнает, что я уже несколько лет без разрешения читаю чужие личные дневники, то совершенно точно заберёт мой любимый крапивный мешок и перепрячет так, что я его уже никогда не найду. Когда я об этом думаю, у меня даже горло перехватывает отстраха, как бывает, если вдруг представишь, что мама умрёт… Я не смогу обходиться без Ксеничкиных историй, без её голоса, который звучит у меня в ушах, а я ведь даже не знаю, какой у неё был голос… Высокий, как у меня, или низкий, как у Княжны?
Наверное, всё же высокий.
С Княжной вышла такая история: однажды я вошла в Димкину комнату не постучав и застыла на пороге. Димка сидел на диване, а Ира полулежала рядом, обнимая его руками за шею. Она меня не видела и не услышала – у них во всю мощь играла музыка. А вот Димка увидел – он весь стал красный, но ничего не сказал, даже не попытался отцепить от себя Тараканову, а просто закрыл глаза, как будто этого достаточно для того, чтобы я исчезла.
И я действительно исчезла, тихо прикрыв за собой дверь.
Димка после того случая перестал смотреть мне в глаза. Он и раньше-то меня не удостаивал особым вниманием, а теперь ведёт себя так, будто мы с ним еле знакомы. Даже мой сосед по парте Ринат Файрушин ведёт себя дружелюбнее, хотя иногда на него находит и он вдруг ни с того ни с сего ломает карандаш в руке. Причём это всегда именно мой карандаш, не его! Ринат не злой, но вспыльчивый.
Тараканова в школе – сама любезность. Занимает мне место в столовой, ждёт у зеркала, чтобы вместе идти домой. Димка, видимо, не рассказал Ире, что я всё видела, а может, это для неё неважно? Они сидят в комнате закрывшись, слушают музыку, и мама начинает беспокоиться.
– Дима совсем перестал учиться, – сказала она вчера вечером папе, шуршащему газетой. Мы втроём сидели в гостиной, точнее, это мы с папой сидели, а мама гладила бельё, и утюг в её руках иногда очень кстати ворчал и пофыркивал. – Вторую четверть закончил с шестью тройками. Уроки не делает, только гостей принимает.
Выразительный взгляд в мою сторону. Я сделала вид, что меня это не касается, прилежно склонилась над сочинением. Я уже второй месяц пишу сочинения для девочек из параллельного класса, а они взамен – по очереди – делают для меня черчение, с которым у меня совсем плохо. Одна из этих девочек, Лена Ногина, собирается поступать в архитектурный и чертит так красиво, что меня чуть на районную олимпиаду не послали после одной её работы! Я попросила Лену чертить похуже, но она сказала, что органически к этому не способна. В общем, я её понимаю, мне тоже трудно писать плохие сочинения, поэтому я ограничиваюсь тем, что делаю там орфографические ошибки, так что девочки получают 5/3 и полную гарантию того, что ни на какую олимпиаду их не отправят.
Писать сочинения для меня – самое настоящее удовольствие, и поэтому я даже для Таракановой это делаю, уже без всяких «взамен». Она в смысле учёбы совсем ничего предложить не может. Только на физкультуре Княжна действительно хороша: в минуту взбирается по канату к потолку, а через козла прыгает так, что в спортзале вдруг становится тихо, как на математике…
Ну и вот, мама жаловалась на Димку, а сама при этом смотрела на меня.
– Что-то вы с братом совсем мало общаетесь, – сказала она вдруг.
Папа шелестнул газетой и показался из-за неё, как будто из-за занавеса в театре.
– Как же так, Ксана, – пожурил меня папа. – Ведь вы же брат и сестра, это очень важно!
Я никогда не ощущала Димку близким мне человеком. А у папы нет ни брата, ни сестры, он был единственным сыном своей мамы, может, поэтому ему и кажется, что иметь сестру или брата так уж важно. Лучше бы он рассказал мне о своём детстве, о маме и об отце – его он никогда не упоминает. Слишком уж много тайн у нашего папы… Хорошо хоть про Танечку я давно не слышала. Она нам больше не звонит, я начала её понемногу забывать, и только сейчас, когда папа стал меня журить из-за газеты, мне пришёл в голову дерзкий ответ: «Ну конечно, это очень важно – быть братом и сестрой! Примерно так же, как сестрой и сестрой, правда, папа?»
Естественно, вслух я ничего такого не сказала, промолчала. А маму моё молчание раздражает ещё сильнее, чем когда я начинаю огрызаться.
– Брат целые дни с твоей подругой проводит! – повысила голос мама. – Тебя это совсем не задевает? Удивляюсь, Ксана!
– А что я могу сделать? – наконец-то разозлилась я. – Она теперь его подруга, не моя. Я с ней вообще не дружу. Я ей нужна, только чтобы дверь открывать. А с Димкой мы никогда не дружили…
– Как-то рано они, – с беспокойством сказала мама. – Ире четырнадцать лет. Серёжа, ну что ты опять в газету уткнулся или тебе всё равно? У тебя, насколько я знаю, только один сын!
На этот раз папа появился над газетой, лицо у него было совершенно красное. Я даже не догадывалась, что взрослые умеют так ярко краснеть!
– А что ты предлагаешь? – спросил он. – Выгнать эту девочку?
– Ну, можно ведь просто поговорить…
– Лучше ты. И не с ней, а с родителями.
– Димка вам этого никогда не простит! – сказала я.
У меня такое часто бывает: я вроде бы и не чувствую к брату особенной любви, но знаю, что должна его защищать. Может, это и есть то, что соединяет сестру и брата и что папа называет «важным»?
Если хорошенько вспомнить, мне от Димки всю жизнь были одни только неприятности. Когда мы были маленькими, он меня довольно часто стукал и даже пинался, если родители не видели. А я на него ябедничала – было дело. У нас с ним никогда не было такой дружбы, как, например, у Лиды с Женей, но ведь Лида с Женей живут в разных городах, видятся только на каникулах, и делить им нечего. А нам очень даже есть чего! Мама, например, совершенно точно больше любит брата, чем меня, – во всех ссорах с самого раннего детства она всегда принимала его сторону. Раньше я из-за этого не так обижалась, потому что считала, что папа сильнее любит меня, чем Димку, – в этом была справедливость. Но это было до того, как появилась Танечка. Теперь я вообще не понимаю: кому я нужна в этой жизни и зачем было меня рожать?
Я подумала об этом и вдруг заплакала – я в последнее время стала очень легко и часто плакать. Мама перепугалась, уронила утюг.
– Даже Ксана переживает за брата! – сказала она папе укоризненно. – Надо что-то делать, Серёжа… Давай позвоним её родителям. Что же, у неё совершенно никаких обязанностей по дому нет? Почему она сидит у нас дотемна семь дней в неделю?
Папа аккуратно сложил газету и потёр кулаком переносицу.
– Как же мне это всё надоело, – тихо сказал он, глядя куда-то в потолок. Мама в тот самый момент отключала утюг, чтобы не спалить синтетические плавки, поэтому ничего не услышала.
А я услышала – и по-настоящему испугалась.
Март 1984 г.
Сцена, достойная карикатуры в журнале «Крокодил»: мы с мамой идём к Таракановым «для разговора». У мамы в руке газетный кулёк с бледной мимозой, похожей на полынь. Я иду как на казнь: сколько слёз, угроз и лишних слов было потрачено, всё впустую! Спорить с мамой бесполезно. «Ты должна мне помочь», – твердила она и всё гремела в шкатулке своими каменными бусами, спутавшимися в клубок, пока не высвободила наконец малахитовую нитку.
Так вот, мы шли к Таракановым с мимозой и серьёзным разговором, который, судя по маминым сжатым губам, уже полностью сложился в её мыслях. Был предпраздничный день, и абсолютно все мужчины, которых мы встречали по дороге, несли цветы в обёрточной бумаге. У меня было плохое настроение не только из-за Таракановых. Мальчишки поздравляли нас в тот день после пятого урока, и мне вручил подарок (какой-то нелепый блокнот с мартышкой!) Илья Кабанов по кличке Свин. Я, конечно, понимаю, что мальчики тоже тянут из шапки бумажки с нашими фамилиями и мне просто в очередной раз не повезло, но ведь мог же кто-то предложить Свину поменяться?.. Тот, кому хотелось бы вручить мне пусть даже и блокнот с мартышкой? Желающих, как видно, не нашлось. Ну что ж, Свин так Свин. От него пахнет, он ковыряет в носу и после еды вытирает руки о штаны, как маленький. Говорят, у него экстраординарные способности к математике, но кого это волнует?
Варю поздравлял Саша Потеряев, Люсю Иманову – Беляев, Княжну – Ринат Файрушин. Все самые нормальные мальчики вытянули бумажки с фамилиями самых популярных девочек… Как такое могло получиться? И почему я попала в «чёрный список» вместе с Тоней Жуковой и Леной Абрамовой, похожей на слона?
В подъезде Таракановых, как и в прошлый раз, сильно пахло помойкой. Дверь открыла Ирина мама. Я плохо помнила её лицо и теперь как бы знакомилась заново. На школьные собрания приходит обычно Виталий Николаевич или Света, старшая сестра Княжны. Мама Иры сказала, чтобы я звала её тётей Валей. Она невысокая, волосы крашеные, жёлтые, тёмные у пробора. В ушах золотые серьги с красными камешками.
Таракановы занимают в квартире две комнаты, а в третьей живёт соседка, баба Фрося. Когда мы пришли, она приоткрыла дверь своей комнаты и внимательно наблюдала за нами. Стояла там в чёрной комбинации, тесно облегающей сушёное тело, и рассматривала нас с мамой, как это делают маленькие дети: серьёзно, с любопытством и опаской. От бабы Фроси шёл тяжёлый, душный запах, как от таблетки стрептоцида, растёртой в медной ложке.
– Не обращайте внимания! – махнула рукой тётя Валя и повела нас почему-то в спальню. Светы и Виталия Николаевича дома не было. В спальне оказалось не прибрано, смятая постель застелена бельём розового цвета, а на простыне темнело небольшое кровавое пятнышко. Я сразу заметила это пятнышко, тётя Валя поспешно прикрыла его одеялом.
Мы не знали, куда сесть – на кроватях, как считалось у нас дома, сидеть не принято, но в спальне не было ни стула, ни кресла. В другой комнате, где обитали Ира и Света, был ещё больший беспорядок. Тётя Валя прикрыла туда дверь, но я успела заметить грязную посуду на столе и какие-то тряпки на полу.
– Садитесь здесь, – тётя Валя похлопала рукой по кровати, и мы с мамой осторожно сели на одеяло, как две принцессы на горошину. Кулёк с мимозой остался лежать нераспакованным на подоконнике, и мама то и дело посматривала на него. Она всегда очень беспокоится о своих и чужих цветах, неважно, срезанные они, в горшках или растут на клумбе. Тётя Валя села рядом с нами и сказала извиняющимся голосом:
– Я чуть-чуть это самое… Праздник же.
От неё действительно пахло вином и ещё чем-то неприятно знакомым.
– Конечно, – сказала мама. – С наступающим, Валентина Николаевна! А вы знаете, где сейчас Ира?
– Моя Ирка? – удивилась тётя Валя. – Так это, гуляет, наверно. Ирка у нас самостоятельная…
– Валентина Николаевна, Ира вот уже несколько месяцев проводит все дни у нас дома. Сидит с Ксаниным братом в комнате. И я не думаю, что они готовят там вместе уроки… Я решила с вами поговорить, потому что у Димы от этой… дружбы… начинает страдать учёба.
– А сколько лет вашему? – спросила вдруг тётя Валя.
– Летом исполнится семнадцать.
– Да. Что-то рано она зачесалась! – сказала тётя Валя. – Так что, сказать, пусть не ходит к вам больше?
– Ну почему сразу «не ходит»? – заволновалась мама. – Вы просто обратите внимание на эту ситуацию, меня она очень беспокоит. Ира ведь младше Димы, они с Ксаной в одном классе учатся и дружат.
Я дёрнулась.
– Поговорите с ней! – продолжала мама. – Пусть она хотя бы через день к нам приходит. И не сидит допоздна.
Тётя Валя вдруг всхлипнула, качнулась вперёд.
– Обманула жизнь! – провыла она. – Обманула, подлая!
Мама испугалась, неловко приобняла тётю Валю, а та вдруг упала ей на грудь даже с каким-то стуком.
– Живём как эти самые! – причитала она. – Ютимся! А он не может квартиру выбить в своей типографии!
Мама смотрела на меня поверх тёти-Валиной головы широко открытыми глазами – я никогда не видела, чтобы у неё было такое растерянное лицо. Наконец тётя Валя оторвалась от мамы, и слава богу, потому что выглядело всё это очень неловко.
– Твой-то где работает? – спросила она маму точно так же невпопад, как это обычно делает Княжна.
– В музее Горного института, – сказала мама. – Валентина Николаевна, мы, наверное, пойдём. Собирайся, Ксана!
Всю обратную дорогу мама мрачно молчала. А я так и не поняла, зачем ей нужно было тащить меня за собой к Таракановым.
Может, она просто боялась идти туда одна?
Апрель 1984 г.
У нас дома много книг и камней. Те, кто приходит к нам впервые, сразу начинают спрашивать: ах, у вас кто-нибудь геолог? На самом деле не геолог, а минералог. Папа работает старшим научным сотрудником в геологическом музее при Горном институте. Он кандидат наук, а когда защитит докторскую, то станет профессором.
Камни папа находил в экспедициях, точнее, не камни, а образцы различных пород, а ещё окаменелости и ракушки-аммониты, похожие на улиток или на бараньи рога. И если честно, наша домашняя коллекция мне нравится больше музейной: каждый образец здесь как родной, а в музее уж слишком много всего разложено и выставлено – устаёшь смотреть, трудно сосредоточиться.
Самый интересный в музее четвёртый этаж, там выставлены кости мамонта, шерстистого носорога и две древние человеческие головы с немного обезьяньими лицами (не настоящие, конечно, а муляжи, но вот кости совершенно настоящие). Когда я была маленькая, то придумывала про этих людей сказки с участием мамонта и шерстистого носорога. Я ведь, можно сказать, выросла в музее, как, кстати, и Димка. Папа здесь уже очень долго работает, на нём колоссальная ответственность, хотя кабинет у него тут крошечный, мы даже с ним вдвоём там едва умещаемся. Вместе с папой работает ещё один научный сотрудник, только младший, Александра Петровна. У неё белые волосы и длинные ногти, которыми, наверное, очень удобно открывать стеклянные крышки ящиков с экспонатами.
Сегодня после музыки я решила заехать к папе в музей, вышла на площади 1905 года и пошла пешком по улице Хохрякова. День был тёплый, кое-где уже виднелись прогалины сухого асфальта. Я видела куст сирени без единого листочка – множество веток, торчащих из снега, напоминали метлу для великана. Не верится, что из этих веток потом начнут расти листья в форме сердечек и гроздья цветов, запаха которых я не переношу.
Я шла уже довольно долго, когда слева появилось наконец здание Горного института и «дырявый камень», поставленный у входа. На самом деле это лимонитовая жеода бурого железняка с пустотой, найденная в Бакальском месторождении в 1905 году. Вес около десяти тонн! Внутрь этой жеоды можно залезть, как в пещеру. Когда мы с Димкой были маленькие, постоянно так делали.
Как папа поразится, увидав меня на пороге! У него как раз заканчивается рабочий день, так что мы сможем пройтись пешком до Московской, а может, и до самого дома. Я люблю гулять с папой, он не делает мне без конца замечания, как мама, а рассказывает интересные истории про свои экспедиции и про то, каким раньше был наш город.
Папа учился в девятой спецшколе, она у нас в городе самая старая и самая лучшая. Нам с Димкой сюда было не попасть, потому что мы стопроцентные гуманитарии, а в «девятку» берут только детей с техническим складом ума. У папы в школьные годы были специальные занятия по краеведению, которые проводил старый преподаватель с удивительным именем Модест Онисимович Клер. Дети называли его просто «дедушка Мо». Вот этот самый дедушка и привил моему папе любовь к камням, к геологии и минералогии, и теперь папа безуспешно пытается привить её нам с Димкой.
Папины рассказы о минералах всегда слишком сложные; мне больше нравится, когда он вспоминает что-нибудь другое. Например, как члены геологического кружка приходили в гости к дедушке Мо. Он жил недалеко от музея и показывал детям зуб доисторической акулы, который сам же и нашёл где-то в окрестностях города. Да, я тоже была поражена, когда узнала, что на месте Свердловска когда-то бушевало древнее море! Отсюда и взялись на Урале раковины аммонита – головоногого моллюска, отсюда и тот акулий зуб, который отыскал дедушка Мо! Вот это меня действительно волнует, а экспонаты я люблю рассматривать, не глядя на таблички, и тогда замечаю, как родонит похож на окорок, ортоклаз – на кирпич, а селенит – на свечной огарок. Конечно, кое-что я успела запомнить, например, что древнейшая горная порода на Урале называется израндит и ей два миллиарда лет или что боксит (шаровая отдельность, будущий алюминий!), похожий на пушечное ядро, был обнаружен в месторождении Красная Шапочка. Эти факты случайно остались у меня в памяти, а что там осталось, то уже никуда не денется – память у меня исключительная.
Вот о чём я думала, поднимаясь по широкой лестнице на четвёртый этаж, к мамонтам и папиному кабинетику. Меня в музее все знают: и гардеробщица, и кассир, я просто сказала, что иду к папе, и меня с улыбкой пропустили, а двое посетителей (иногородние, сразу видно) с интересом меня разглядывали, и это оказалось очень приятно. Настроение у меня было хорошее, и я навестила своих любимцев на третьем этаже, прежде чем пойти к папе. Это «зеркало скольжения на медном колчедане», похожее на золото, и «микроскладка» каменной соли – яркий полосатый камень, очень весёлый и праздничный.
Экспонаты в музее хранятся под стеклом, в старинных деревянных витринах, но самые крупные стоят сами по себе, и если это какой-нибудь кварц, то в солнечный день, такой как сегодня, он весь переливается на свету! Хочется прикоснуться к большому блестящему гладкому камню или лизнуть каменную соль, но прикасаться к экспонатам нельзя! Если кто-то об этом забудет, ему напомнит Марианна Аркадьевна, смотрительница. Она всегда носит на плечах ажурную шаль, похожую на скатерть. В ушах у неё – тяжёлые серьги из малахита.
– Руками не трогать! – говорит Марианна Аркадьевна свистящим шёпотом, и нарушитель, только что цапнувший экспонат, вспыхивает от стыда.
Со мной Марианна Аркадьевна говорит ласково, но тоже шёпотом – честно говоря, я никогда и не слышала её нормального голоса…
– Ксаночка, дорогая! Ты к папочке? Он у Александры Петровны, посиди тут на стульчике, я его позову!
– Да не надо, Марианна Аркадьевна, я сама!
Марианна Аркадьевна поправила на плечах ажурную шаль, как будто взмахнула крыльями:
– Ну как знаешь.
Она села на стульчик, где сбоку очень по-домашнему лежали книжка, вязанье и очки на цепочке. Читать или вязать Марианна Аркадьевна не стала, а вместо этого внимательно следила за тем, как я продвигаюсь по залу. Будто я не дочь ведущего научного сотрудника музея, а совершенно посторонний ребёнок, впервые увидевший чёрные кости мамонта и жёлтые – как из дерева! – зубы доисторической акулы. Я даже обернулась от её взгляда. Марианна Аркадьевна следила за мной, как будто это был театр и я играла на сцене – очень странное, непривычное ощущение! Взгляд смотрительницы подталкивал меня в спину, как сильный ветер.
У лестницы я повернула вправо и очутилась прямо перед кабинетом Александры Петровны. Он располагается точно под папиным, но обставлен иначе. Я ещё раньше думала, что у Александры Петровны, как у нашей мамы, есть дар делать уютным любое помещение, даже купе в поезде. У неё были здесь разные салфетки, картинки и фотографии на стенах, а на стуле лежала мягкая подушечка. Одна фотография в рамке показалась мне знакомой, там была изображена девочка, немного похожая на артистку Яну Поплавскую. Но я не успела понять, кто эта девочка, потому что увидела папу. Он стоял ко мне лицом и крепко целовал Александру Петровну. Папа увидел меня, и я побежала прочь, обратно в зал, где довольная Марианна Аркадьевна поправляла на носу свои очки на цепочке.
Я металась, как ненормальная, по залу, а потом услышала за спиной папин голос, его быстрые шаги и, слетев вниз по лестнице, обронив где-то папку с нотами, припустила через дорогу. Влетела в здание Горного института, забежала на второй этаж и оказалась в длинном коридоре, на стенах которого с обеих сторон висели фотографии умных печальных людей. Студентов уже не было, преподаватели ушли домой. Я была совсем одна. Села прямо на пол, пытаясь отдышаться, смотрела на эти портреты, и они тоже как будто бы смотрели на меня.
Один из этих портретов изображал женщину с усталым, расстроенным лицом. Под ним была подпись: Ксения Михайловна Лёвшина, первая заведующая кафедрой иностранных языков.
И годы жизни: рождение совпадало с Ксеничкиным, год смерти – 1965-й.
Май 1984 г.
В одном из бабушкиных дневников рассказывалось о подземных ходах, которые были прорыты в Полтаве в незапамятные времена. Когда я убегала в тот день из музея, то ни о чём не могла думать, кроме как о том, чтобы провалиться в какой-нибудь подземный ход – и никогда больше не видеть ни отца, ни Александру Петровну, ни Димку с Княжной…
Наверное, надо рассказать маме о том, что я видела в музее. Но что, если она разведётся с папой и он уйдёт жить к Александре Петровне? Я вспоминала её руки на папиной рубашке (мамой, между прочим, выглаженной!) и прямо вся передёргивалась от отвращения, как бывает, если случайно увидишь на улице мёртвого голубя…
В институте, где я пряталась от папы и случайно увидела портрет бабушкиной тёзки, до меня дошло, что в кабинете у Александры Петровны висела фотография Танечки. Я чувствовала себя так, будто решала очень трудную задачу по геометрии. Кстати, завтра у нас годовая контрольная, к которой я совершенно не готова. Придётся списывать, не знаю у кого.
Дано: папа целует Александру Петровну прямо у себя на работе. На стене у Александры Петровны висит фотография Танечки, которая считает моего папу своим. Доказать: Танечка – дочь моего папы и Александры Петровны?!
Как только я задала себе этот вопрос, у меня всё внутри похолодело. Получается, что папа уже столько лет обманывает нас с мамой! Или же мама обо всём знает и это только от нас с Димкой скрывают?
Но зачем им с Александрой Петровной так целоваться, если они столько лет знакомы? С нашей мамой папа никогда не целуется – я ни разу не видела. Может, Танечка – приёмная дочь папы? Но почему тогда она так похожа на Димку (даже больше, чем на Яну Поплавскую)? У меня даже мозги заболели от всех этих мыслей, и надо было уходить из института: мама будет волноваться. И… папа. Я не представляла себе, что он мне скажет и что я ему скажу. Я просто не хотела его больше видеть никогда в жизни. Ну или хотя бы несколько дней.
На этаже, где я пряталась, вдруг выключили свет. Я побежала вниз, чтобы меня не закрыли в институте, и по дороге думала, что Ксеничка каким-то удивительным способом передала мне свою поддержку: ведь понятно же, что портрет усталой женщины, который висит в Горном, не имел к ней отношения, но он всё равно напомнил о моей любимой бабушке-подружке.
Почему не имел отношения? Здесь всё просто, обойдёмся без «дано» и «доказать». Во-первых, Ксеничка погибла в блокадном Ленинграде, а Ксения Михайловна с портрета прожила аж до 1965 года. Во-вторых, фамилия у Ксенички должна быть как у моего папы – Лесовая, а портрет подписан девичьей: Лёвшина. Конечно, Лёвшина – не самая распространённая в мире фамилия, но в жизни встречаются разные удивительные совпадения.
Я шла пешком, потому что начался час пик и в трамвай я бы просто не влезла. Всё-таки удивительно, что я читаю дневники Ксении Михайловны Лёвшиной – и вдруг вижу в институте портрет женщины с таким же точно именем. И она была преподавательницей иностранных языков! Я резко затормозила, до меня только сейчас это дошло – про иностранные языки…
Мысли мешались, путались, всё скаталось в какой-то клубок, как бывает, если я берусь вышивать крестиком. Мама вечно ругается, потому что аккуратные рулетики дефицитных мулине превращаются в лохматые колтуны «на выброс»… Может, вся эта история с Александрой Петровной как-нибудь сама собой решится и забудется?
Я так устала об этом думать, вообще, я так устала в тот день, что ноги сами несли меня домой, пока я не увидела, что магазин «Галантерея-Трикотаж» ещё открыт. Это мой любимый магазин, хотя на прилавках там нет ничего интересного (за интересным надо ехать на барахолку). Зато здесь работает самая красивая в мире продавщица.
Она сама, конечно, знает, что красива: на неё всё время кто-нибудь заходит поглазеть. Она даже лучше артисток польского кино из набора открыток! Высокая, светловолосая, с тонким носом и синими глазами. Непонятно, что она делает в этой «Галантерее-Трикотаже». По просьбам скучных тётенек красавица отрезает какое-то количество тесьмы или складывает пуговицы в кулёк из бумаги.
На табличке, которая висит на стене, указано: «Вас обслуживает продавец 3-й категории Бланкеннагель Е. Д.». Я думала, что её зовут Елена (Прекрасная!), пока не услышала, как со склада ей кто-то крикнул однажды: «Кать, прими товар!» Значит, Екатерина. Она, как заколдованная принцесса из сказки, томится за прилавком и продаёт разные скучные вещи. Только один раз здесь давали дефицит – японские зонты. Очередь тянулась чуть не до автобусной остановки, и нам с мамой не хватило.
В тот вечер я разглядывала Бланкеннагель ещё внимательнее, чем обычно, мечтала: вот бы мне тоже стать такой, когда вырасту. Бывает же, когда девочки полностью меняются – сбрасывают свою детскую внешность, как лягушачью кожу, и расцветают! Во многих книгах такое описано, вот пусть и со мной произойдёт. Если я стану изумительной красавицей, то папа будет гордиться мною больше, чем Танечкой. Походить на Яну Поплавскую тоже неплохо, но я предпочла бы стать точной копией Екатерины Бланкеннагель.
– Тебе что-то нужно? – ласково обратилась ко мне красавица.
Я растерялась, потому что ни сутаж, ни пуговицы покупать не собиралась. Лицо её стало сердитым, нахмуренным – я думала, это потому, что я молчу, как дурочка, но нет, Бланкеннагель рассердилась на посетителя, который только что вошёл в магазин. Он был тоже, наверное, красив, во всяком случае высок и молод. И пьян, ужасно пьян!
– Ну что, немчура? – сказал он продавщице. – Долго ещё ломаться будешь?
– Уходи отсюда, – сквозь зубы сказала Бланкеннагель. – Тут покупатели.
Она кивнула в мою сторону, но пьяный, бегло глянув на меня, рассмеялся:
– Покупатели! Не смеши давай! Сегодня чтоб пришла, ясно тебе?
Бланкеннагель вдруг вспыхнула, как будто ей стало жарко, и мелко кивнула, со страхом глядя, как пьяный идёт к прилавку. На меня он не смотрел, а больше в магазине никого не было. И вот он уже тянет к ней руку и проводит пальцем по её белому гладкому горлу… А она молчит и терпит, молчит и дышит… Не знаю, что со мной произошло, но я вдруг схватила ножницы, которые стояли в вазочке рядом с кассой, и ударила его прямо в ногу! Сильно. Ножницы упали на пол, пьяный взревел, повернулся ко мне – и стал прямо очень похож на маньяка!
– Анна Олеговна! Анна Олеговна! – кричала страшным голосом Бланкеннагель. Из подсобки выбежала женщина («Вас обслуживает кассир Полякова А. О.»), и, пока они все трое визжали и кричали, я вылетела из «Галантереи-Трикотажа» и в пять минут добежала до нашего подъезда.
Мне навстречу метнулась тёмная тень с нотной папкой в руках.
– Пожалуйста, не говори ничего маме, – попросил отец. – Я сам ей всё потом объясню.
Я молчала. В окне у Димки горел свет. Всё-таки у мамы замечательный вкус – эти оранжевые шторы делают комнату очень уютной.
Отец говорил ещё что-то, но мне его слова были понятны не больше, чем табличка в музее: «Рогово-обманковый габбропегматит с тулитизированным плагиоклазом». Я пыталась понять – и не могла, просто слушала папины слова, не отражая смысл. Как иностранный язык, которого не знаешь. Как музыку, которую не любишь.
– Вы что это тут делаете? – К подъезду шла весёлая, довольная мама с небольшим пакетом в руках.
Она с загадочным видом потрясла пакетом у нас перед лицами, а потом вытащила оттуда мужскую сорочку и галстук.
– Импортные галстуки продаются только так, с нагрузкой, – пояснила она. И забеспокоилась: – Серёжа, нравится расцветка?
Спустя три дня
Сегодня мы шли из школы вместе с Княжной. Она дожидалась меня внизу, у зеркала, лицо у неё было загадочное и даже какое-то торжественное. Всю дорогу она молчала, только иногда вздыхала, отбрасывая за спину свои густые рыжие волосы. Может, она хотела, чтобы я задала ей какой-то вопрос? Скорее всего, это помогло бы, но я из вредности тоже молчала. Почему я должна всегда идти навстречу другим, если они не делают даже шага в мою сторону?
В классе у нас все теперь помешались на «Модерн Токинг». На физкультуре Иманова рассказывала, что в Германии было покушение на Томаса Андерса, и Варя заявила: тех, кто на это решился, надо расстрелять! У неё было такое суровое лицо, что я не выдержала и рассмеялась, и почти все наши меня осудили. Хотя мне Томас тоже очень нравится, и я за него переживаю не меньше Вариного… Я как раз думала о Томасе, о его красивом, идеальном лице, когда заметила на стенде у милиции фотографию другого красивого лица. Я сразу узнала его, но прошла вперёд на автомате и только потом вернулась и протёрла пыльное стекло.
Их разыскивает милиция
11 мая ушла с работы и не вернулась домой Бланкеннагель Е. Д., 25 лет. Была одета в синее платье и косынку с узором «огурцы». Туфли чёрные, сумка коричневая. При себе имела незначительную сумму денег, флакон духов французской марки «Клима» и книгу Фейхтвангера «Гойя». В ушах – золотые серьги-листики. Особые приметы – блондинка, синие глаза, родинка над верхней губой. Просим всех, кто имеет сведения о пропавшей женщине, позвонить по телефону 23-12-30 или 02.
– Ну, ты скоро? – недовольно окликнула меня Тараканова.
– Нескоро. Иди одна.
– В милицию собралась?
– А тебе-то что?
На глазах у Таракановой я гордо зашла в отделение, где не бывала до того ни разу в жизни. Внутри всё не слишком-то отличалось от обстановки в нашей школе или, например, в районной поликлинике, только люди были в форме и смотрели на меня с удивлением.
– Ты к кому? – спросил дежурный. Я сказала, что хочу поделиться сведениями о пропавшей гражданке Бланкеннагель. Сама сейчас не понимаю, откуда у меня взялась такая смелость! Дежурный велел сесть на стул в углу, а сам позвонил по телефону, и вскоре к нам спустился мужчина в мятых брюках. От него сильно пахло сигаретами. Усы свисали как слишком длинные шнурки.
– Пойдёмте со мной.
Он говорил мне «вы». Это было сразу и приятно, и нет. Мы прошли на второй этаж, и мужчина открыл дверь маленького кабинета, где на столе дымилась сигарета в пепельнице. Такие пепельницы (я это знала от Димки) делают заключённые на зоне. А на стене висела сплетённая из больничных капельниц рыбка с длинным хвостом. Я видела такую у Вари, её дедушка подолгу лежал в больнице и там от скуки научился делать таких рыбок, а ещё оленей и человечков в шляпах. Мужчина заметил, как я разглядываю рыбку, и усмехнулся:
– Вы очень наблюдательны, так ведь?
Я промолчала, потому что не знала, как на это ответить. И мне было стыдно, что я вижу, какие у него мятые брюки и неприятные усы.
– Меня зовут Василий Михайлович, я следователь. Слушаю вас внимательно!
Он, кстати, и смотрел на меня очень внимательно – я чувствовала его взгляд на своём лице так, что хотелось прищуриться, как от яркого света. Я стала рассказывать Василию Михайловичу о той истории в галантерейном магазине, когда пьяный мужчина обозвал Бланкеннагель «немчурой». Про ножницы я благоразумно умолчала – вдруг мне за это попадёт?
Следователь почти не перебивал, подробно записал в блокноте моё описание пьяницы и только в самом конце спросил, была ли я знакома с Екатериной Дитриховной лично? Я сказала: нет, не была. А откуда я тогда её знаю? Я ответила, что, во-первых, Екатерина Дитриховна была такая красивая, что на неё многие специально приходили посмотреть, а во-вторых, я фамилию запомнила по табличке на стене.
– Да, фамилия у ней редкая, – с удовольствием подтвердил следователь. – Это вам не Иванова и не Кузнецова…
Тут в дверь кабинета постучали, и вошёл ещё один мужчина в рубашке с коротким рукавом.
– А вот как раз майор Иванов! – обрадовался Василий Михайлович. – Какими судьбами, Валентин Петрович?
– По вашему делу, – кратко сказал гость, и я его тут же вспомнила. Это был тот самый следователь, который приходил тогда к нам домой, расспрашивал про Ольгу и отказался есть фаршированные перцы.
– Напомните ваше имя, – сказал Василий Михайлович, хотя я его ещё и не называла.
– Ксения Лесовая.
– Лесовая, Лесовая… – Валентин Петрович так гримасничал, что мне стало его даже немного жалко. Мой папа тоже всегда корчит гримасы, когда не может что-то вспомнить или, например, открыть консервную банку с первой попытки.
– Вы приходили к нам, когда убили Ольгу Тарасову.
– Точно! – Теперь у следователя было лицо как у папы, когда он открыл наконец проклятую банку. – Брат учится в одном классе с младшим Сиверцевым, верно?
– Да.
Он выглядел совершенно счастливым всего секунду.
– А сейчас к нам с какой целью явились?
До этого Василий Михайлович в наш разговор не вмешивался, следил за ним, как пишут в книгах, «с растущим интересом», но тут сказал:
– У девушки информация о пропавшей Бланкеннагель. Говорит, красивая была женщина.
– Почему «была»? – возмутился Валентин Петрович.
– Ну, это я так, – смутился Василий Михайлович. – Вы, Ксения, оставьте нам свои данные: адрес домашний, школа, класс. Телефончик обязательно. Мы ваш сигнал проверим.
– Её найдут? – спросила я сразу у обоих мужчин, но они отвели глаза и ничего не ответили.
Дома я попыталась готовиться к экзаменам, но как только открыла учебник, так тут же и застряла на первой странице. Никак не могла сосредоточиться!
Теперь я ещё от каждого телефонного звонка вздрагиваю, мне кажется, что это звонит следователь Василий Михайлович, а там – мамина подруга тётя Эля, у которой всегда разговоров на два часа. Папа играет на пианино дуэт Альфреда и Виолетты из оперы «Травиата». А я совсем забросила музыку. Луиза Акимовна говорит, что ей стыдно будет выпускать меня на сцену в общем концерте.
Очень хочется кому-то довериться. Выговорить вслух всё, что накопилось внутри и лежит там, такое тяжёлое и чёрное, как свежий дымящийся асфальт. В детстве я любила подойти к этому асфальту ближе и вдыхать его жаркий запах полной грудью, но мама всегда отгоняла меня, говорила: это вредно. Кому рассказать? Маме – нельзя, с папой я стараюсь не общаться, Димка теперь идёт в одном комплекте с Княжной, Варя дружит с Имановой и разнесёт сплетни по всей школе. Луиза Акимовна сердится на меня из-за посторонней болтовни на уроках.
Я дожила почти что до четырнадцати лет – и рядом нет никого, с кем я могу поделиться или посоветоваться!
Как вдруг меня осенило: Танечка!