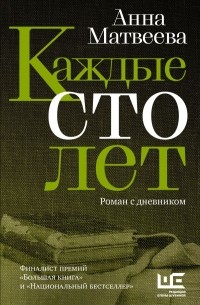Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Полтавская битва
Опять, как при переезде в новую квартиру, меня заперли в дальней комнате, откуда были слышны топот сапог, обрывки разговоров и начальственные окрики Михаила Яковлевича. Когда же разрешили выйти в гостиную, там стоял большой хвостатый рояль. Все члены семьи толпились около него – и все сияли. Но Юлия Александровна никому не позволила играть, потому что роялю надо было «отдохнуть» с дороги.
Приобретение рояля завершило долгую подготовку к завоеванию Полтавы, города, привыкшего к победным сражениям. Теперь Лёвшиным следовало усиленно обзаводиться знакомыми: предстояло сделать множество визитов и обеспечить старшей дочери выезды в местный свет. Выдать замуж – и с плеч долой!
Рояль заметно разнообразил нашу жизнь. Геничка просиживала за ним часы напролёт, повторяя разученные с мадам Тур сонаты Бетховена и пьесы Шопена. По вечерам за рояль садилась мама, и её серебристую игру сразу же можно было отличить от более правильной, но сухой манеры Гени.
Моё музыкальное образование ограничивалось редким исполнением под аккомпанемент рояля песенок из единственного в то время детского сборника «Гусельки». Песенка «Ах, попалась, птичка, стой!» была моим лучшим номером. По вечерам я с наслаждением слушала в постели игру мамы и Гени, пока не одолевал сон.
Вскоре началась подготовка к сезону, встал вопрос о платьях. Раскрылись длинные зелёные сундуки, на диванах, стульях и столах лежали старые, но ещё приличные платья и новые, купленные ранее в Варшаве материалы. Меня восхитила диковинка, невиданная дотоле: ярко-голубой сарафан из шёлка, весь расшитый белыми бусами под жемчуг, и такой же, усыпанный бусами, кокошник. Простодушные детские восторги по поводу русского костюма так рассердили Геню, что она схватила сарафан и со злостью бросила его на дно опустевшего сундука. Лишь через много лет мне стало понятно, почему один вид этого нарядного костюма вызвал у сестры такую ярость. В Царстве Польском Михаил Яковлевич требовал, чтобы старшая дочь посещала церковь по большим праздникам непременно в костюме русской боярышни. Такая демонстрация, пусть она и не выходила за пределы домовой церкви реального училища, всё же вызвала толки среди местного русского и польского общества, и Геня это хорошо чувствовала. Кроме того, сарафан не шёл к ней, а только подчеркивал нестатность её фигуры. Требование отца было для Евгении настолько тягостным, что она пыталась протестовать, – вот с этого-то сарафана и пошли у ней столкновения и нелады с ним…
Внимание привлекла ещё одна вещь, достойная, по моему мнению, лишь Золушки на балу у принца: это была короткая пелерина из белого, затканного крупными цветами шёлка на розовом атласном подкладе, да ещё и опушённая по вороту и краям чем-то белым и очень нежным.
– Лебяжий пух! – с благоговением сказала мама.
Рядом с пелериной лежали длинные белые перчатки и веер из слоновой кости, отороченный белыми страусовыми перьями. Но я не могла оторвать глаз от дивной пелерины:
– Что это?
– Сорти-де-баль, – разъяснила мама, – его надевают на плечи, когда бал кончается, чтобы не простудиться при разборе шуб.
– Столетней давности старьё! – с дрожью в голосе крикнула сестра, и сорти-де-баль полетел в сундук вслед за сарафаном.
Тут как раз пришёл отец, и начался оживлённый спор по поводу двух кусков материала нежных и красивых тонов розового и голубого цвета. Будущие бальные платья Гени! Отец на чём-то настаивал, у мамы был недовольный вид – она тоже спорила, что-то доказывая. Геня сидела надутая и злая. Лишь только отец ушёл, обе возбуждённо заговорили по-немецки. На другой день розовые и голубые волны материала со стола исчезли…
Помню тот далёкий год, когда отец решил учить меня чтению. Грамота давалась легко, отец был доволен, хвалил, мама улыбалась. Уроки с отцом мне очень нравились, и он занимался со мной с увлечением. Занятия шли ежедневно – и в будни, и по воскресеньям. К середине января я прочла «Букварь», сравнительно бегло читала рассказики из «Родного слова» и умела писать строчные буквы, освоила устный счёт.
И вдруг занятия оборвались! Я прекрасно помню, как сидела за столиком в ожидании отца, а он вошёл в комнату вместе с мамой, о чём-то оживлённо беседуя. Разговор затягивался, перешёл в спор, отец волновался, а я ждала, когда кончат, скучала… Наконец спор прекратился, отец подошёл к столику, сел, потом тут же вскочил и повернулся к маме, всё ещё стоявшей в раздумье:
– Зачем мне её учить? Она уже хорошо читает. А письмом, Юленька, можешь ты с ней заниматься. Ну, арифметику я, пожалуй, продолжу.
Он быстро вышел. Мне хотелось плакать. Мама ничего не сказала, вышла следом с нахмуренным лицом.
С тех пор каждое утро мама задавала мне списать страницу букв, а потом – страницу слов и фраз из книжки с прописями. Первое время она или, по её поручению, Геня следили за тем, как я пишу. Пока я писала знакомые мне строчные буквы, дело шло, но когда дошла до заглавных, которых с отцом не проходила, началось мучение. Мне самой было тошно от кривых и разлапистых «Б» и «В». Мама и сестра подходили всё реже, а подходя, ужасались, ругали, подправляли мои каракули и задавали дальше. Точно так же каждое утро я приходила к отцу за заданием по арифметике; он лежал одетый на кровати с книгой и курил, проверял задание и писал новые примеры, иногда что-то объясняя. Весь урок занимал десять-пятнадцать минут. От отца странно пахло, но я не понимала, что это запах вина: тогда он и начал пить.
В то время я ещё не боялась отца; моя беда началась, когда дело дошло до таблицы умножения. С такой охотой учивший меня прежде, папа теперь из-за каждой ошибки выходил из себя, кричал, ругал так, что я пугалась и уходила в слезах. Мама, чтобы избежать этих «историй», начала меня предварительно спрашивать, проверять, готова ли я к «уроку», и отпускала к отцу лишь после тщательной проверки. И всё же я шла к нему с сильно бьющимся сердцем. С нетерпением ждала, когда кончатся ненавистные столбики цифр, но за таблицей умножения последовала таблица деления, которая была ещё хуже. Даже мама начала терять терпение… Затем отец заболел, в течение нескольких дней я к нему не ходила, и занятия арифметикой прекратились сами собой. Но страх перед отцом остался…
В середине сезона произошло событие, которое вывело из себя Геню, возбудило всю семью и бесконечно обсуждалось на русском и немецком языках. Прибыли бальные платья из Варшавы. Вот куда делись те внезапно исчезнувшие волны голубой и розовой материй!
Отец настоял на том, чтобы платья шила та знаменитая портниха, которой заказывали выездные платья мамы. Геня и мама были против, но, как всегда, подчинились, и материи с надлежащими мерками отправили в Варшаву. Ждать пришлось несколько месяцев, и прибытие посылки встретили радостными восклицаниями. Картонки вскрыли, из них вынули что-то голубое, необыкновенно воздушное, и розовое, несколько менее воздушное, но очень пышное. Два чуда варшавского вкуса!
Однако за два-три месяца после отправки заказа Геня успела располнеть, и оба платья оказались ей тесны. Голубое, представлявшее собой ворох рюшей и узких оборок, было настолько изрезано, что переделать его не имелось возможности, а розовое переделали, но шик при этом потерялся.
Запоздалое завоевание Полтавы начиналось не очень удачно, отца и Геничку с первых же дней постигли разочарования. Не страдавшая тщеславием Юлия Александровна переносила неудачи спокойно, тем более что ей выпала лучшая доля. Её такт, прекрасный французский язык, простота и достоинство в обращении с лёгкостью завоёвывали людей – именно Юлии Александровне принадлежала заслуга в том, что у Лёвшиных появился довольно обширный круг знакомых.
Михаилу Яковлевичу пришлось труднее. Ставка на знатность рода была сразу же бита. Полтавское общество, группировавшееся вокруг губернатора, состояло из богатых помещиков, имевших в городе свои дома. Они большей частью принадлежали к родовитой украинской знати – Старицкие, Сулима – или же к русскому дворянству по той же Шестой книге – Ахшарумовы, Милорадовичи и так далее. Богатая и чванная полтавская аристократия не пожелала впустить в свою среду отставного действительного статского советника, приехавшего откуда-то с окраины, не обладавшего ни домом, ни имением, ни деньгами, да к тому же не игравшего в карты. И даже эрудиция не проложила Михаилу Яковлевичу пути. Он мог блистать в Ловиче, крохотном городке, где был на голову выше окружающих и занимал видное положение, тогда как полтавскому обществу, погрязшему в картах и сплетнях, нужен был блеск иного рода – деньги, связи…
Бюрократическая Полтава, обленившаяся на сытных хлебах, встретила Лёвшина приветливо, как всякого нового партнёра в карты, но радушная улыбка хозяев гасла, когда Михаил Яковлевич широким жестом отклонял приглашение составить партию в преферанс или винт, говоря, что в карты принципиально не играет. Даже для блага семьи он не нарушил этот принцип, хотя супруга, сразу верно оценившая положение, советовала ему не гнушаться этим могущественным средством приобретения веса в обществе.
В конечном счёте в штурме полтавского общества Лёвшин потерпел поражение – боролся не тем оружием. Но поначалу неудачи его не обескураживали, и борьба продолжалась несколько лет. В окружение губернатора проникнуть не удалось, зато он встретил поддержку у предводителя дворянства Ахиллеса Ивановича Забаринского. Здесь Шестая книга не подвела.