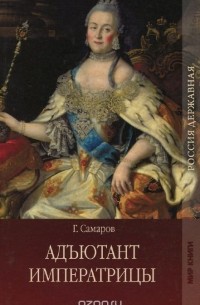Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 26
Румянцев разрешил своим победоносным войскам лишь один день отдыха в завоеванном турецком лагере. Найденные в большом количестве припасы были взяты под охрану и в строгом военном порядке распределены между солдатами, причем все драгоценности, оставленные в палатках пашей и беев, были предоставлены войскам, как военная добыча.
Еще поздно вечером, после победы, военный совет, собравшийся в палатке визиря, решил дальнейшее движение вперед, причем солдатам давался день отдыха, а весь боевой материал, оставленный по ту сторону реки, велено было перевезти сюда.
Румянцев хотел тотчас же отправить генерала Салтыкова к императрице с известием о блестящей переправе через Дунай, о взятии турецких знамен и позиции визиря, но Салтыков, несмотря на то, что его рана в руке была не опасна, нуждался еще в отдыхе и покое; к тому же он объявил, что хотя враг и побит, но поход еще не окончен, и он примет на себя почетное поручение только тогда, когда будет в состоянии доложить государыне о мире, продиктованном врагу от имени ее императорского величества.
– Вы правы, – ответил Румянцев. – Кто, подобно вам, кровью заслужил первые лавры, тот может выражать желание положить к ногам государыни и весь венок. Вам я обязан благодарностью за сохранение чести моего имени. Вам подобает принять все почести, если мы одержим окончательную победу.
– Вы не поняли меня, – возразил Салтыков, пожимая руку Румянцева, – вам принадлежать вся честь, вся слава, вся признательность, и никто не будет с большей горячностью, с большим воодушевлением прославлять ваше имя, чем я. Но я, – добавил он тихим голосом, – хотел бы только доказать государыне, что не забыл ее требования и обратил юношескую мечту в деяния зрелого мужа, что я подверг опасности свою жизнь, желая оправдать ее гордое царское слово, подобно тому, как я когда-то рисковал жизнью за один взгляд, за одну улыбку великой княгини.
На второй день армия выступила вперед, чтобы окончить дело, которое все еще казалось довольно трудным и могло привести к жаркому бою, так как турецкая армия все еще превосходила численностью русскую, по крайней мере, в три раза, и если бы врагу удалось сосредоточить и привести в порядок свои силы, то предстояла бы новая битва, на этот раз конечно без опасной переправы через реку, но все-таки достаточно серьезная, чтобы пришлось напрячь все силы для обеспечения окончательной победы.
Но положение оказалось благоприятнее, чем этого опасался Румянцев; в виду нового быстрого наступления русской армии, турецким полководцам не удалось ободрить и вновь привести в порядок свои разрозненные, в паническом страхе бежавшие войска.
Великий визирь с главным ядром своих войск засел в крепости Шумль, а остальной армии приказал расположиться вокруг крепости и со всей поспешностью приступить к земляным работам с целью оградить себя от атаки русских; он надеялся выиграть время, чтобы привести войска в боевой порядок и снова выступить с ними против неприятеля. Но Румянцев своим быстрым выступлением разрушил его планы. Едва турки успели собрать свои разрозненные полки, как подоспел Суворов со своей легкой кавалерией. Увидев страшного врага, внушавшего турецким солдатам почти суеверный ужас, турки поспешно скрылись за еще не оконченными земляными укреплениями.
Суворов со своей кавалерией в течение некоторого времени продолжал, словно дразнил набегами сбившегося в плотный комок неприятеля и заставлял его быть в постоянной тревоге, а в это же время на горизонте показался Румянцев с гренадерами и несколькими батареями. Суворов поскакал ему навстречу, чтобы сделать свои донесения. Не колеблясь ни минуты, Румянцев, после немногих пушечных выстрелов, более напугавших врага, чем причинивших ему вред, велел гренадерам построиться в штурмовые колонны и двинуться на турецкие окопы; он сам, пеший, с обнаженной шпагой в руке, повел свой батальон.
Салтыков ехал рядом с первой колонной в легком экипаже, положив раненую руку на подушку, и, ободряя солдат, постоянно кричал:
– Да здравствует государыня императрица Екатерина Алексеевна, победоносная, непобедимая!
Солдаты с воодушевлением вторили его кликам и стремительно бежали вперед.
Дурно направленные и почти безвредные пушечные выстрелы загрохотали навстречу атакующим. Но, когда голова колонн достигла неприятельских окопов, когда русские гренадеры, под предводительством Румянцева, взобрались на низкую насыпь, оттуда спрыгнули вниз, а затем быстро сомкнулись в ряды и с криками «ура» бросились на неприятеля, – турки без всякой попытки сопротивления обратились в бегство. Они бросились врассыпную направо и налево, через обширное поле, увлекая своим примером обе части войска, стоявшего по бокам крепости, за своими окопами. Вскоре все громадное поле покрылось бесцельно, в безумном страхе бежавшими толпами турецких солдат.
В это время налетела вся кавалерия Суворова, неся смерть и гибель приведенным в смятение туркам, то разбегавшимся в стороны, то трусливо собиравшимся в беспорядочные массы. Снова, как в первый день битвы, Румянцев стал во главе своих кирасир и в одно мгновение ока закованные в железо всадники помчались через поле, то тут, то там разгоняя толпы врагов и обрекая их на окончательную гибель, которую им несли разъезжавшее кругом казаки.
Бегущие турки бросились к воротам Шумлы, но эти ворота не открылись и под стенами самой крепости, среди ужасающего смятения и паники, тысячи были перебиты казаками, причем пушечные выстрелы, от времени до времени раздававшиеся с валов, решительно не приносили никакого вреда свободно разъезжавшей кавалерии.
Несколько часов продолжалась ужасная работа истребления; Румянцев не хотел иметь пленных; он желал уничтожить врага, чтобы на долгое время отрезать Порте возможность новой войны. И это страшное дело истребления удалось блестящим образом, так как, когда солнце склонилось к закату, более половины турецкой армии полегло, а бежавшие, которым удалось спастись от ужасной кровавой бани, уже не могли в этот поход быть собраны для серьезного сопротивления врагу.
Румянцев и ночью не дал отдыха своим войскам: вокруг крепости был раскинут лагерь, возведены земляные укрепления и на всех возвышенностях поставлены постепенно доставленные пушки, чтобы было удобнее обстреливать неприятеля.
На следующее утро крепость оказалась окруженной таким тесным кольцом, насколько это позволял небольшой отряд Румянцева; теперь, не обращая внимания на редкие выстрелы из крепости, которые едва ли могли указывать на желание упорного сопротивления, он мог дать отдых своим солдатам. Пользуясь этим свободным промежутком времени, также и Салтыков спокойно лежал в своей палатке, предоставляя доктору лечить свою рану, состояние которой вследствие возбуждения во время боя ухудшилось, но все же не представляло опасности для жизни.
В течение пяти дней русская армия осаждала Шумлу; быть может, великий визирь надеялся, что находящаяся вне крепости разбежавшаяся турецкая армия попытается еще раз соединиться и, напав на русский лагерь, даст осажденным возможность сделать вылазку.
Румянцев каждый день посылал в город несколько пушечных ядер, но не открывал серьезного огня; он знал, что крепость, в которой за несколько дней пред этим не ждали никакого неприятельского нападения, не могла быть приготовлена к осаде и снабжена провиантом; вследствие этого он надеялся без пролития крови и потери людей принудить визиря к капитуляции, причем сам он сохранял боевые снаряды и своих солдат на тот случай, если бы все-таки битва оказалась неизбежной; в то же время он всюду рассылал на разведки свою кавалерию, чтобы убедиться, не подвигается ли с какой-нибудь стороны турецкий корпус на выручку осажденных. Его ожидания не обманули его, так как на шестой день осады Шумлы на зубцах стены крепости вдруг показался белый флаг, что было встречено русскими войсками радостными криками, распространившимися по всему лагерю. Вскоре после этого открылись ворота крепости, выехал из них адъютант визиря и направился к русскому лагерю.
Румянцев выслал ему навстречу генерала Каменского, чтобы провести парламентера в свою палатку, и принял того в присутствии Салтыкова, Каменского и Суворова.
Турецкий офицер, прекрасно владевший французским языком и потому не нуждавшийся в переводчике, кратко и серьезно объявил, что его начальник, облеченный со стороны всемилостивейшего падишаха неограниченной властью, желает прекратить военные действия и готов снова начать прерванные переговоры о мире.
– А Шумла? – спросил Румянцев.
– Визирь признает, – ответил адъютант, – что он не в состоянии удержать за собой крепость, но ведь взятие ее русской армии стоило бы тысячи жизней. Визирь решил лучше похоронить себя под развалинами крепости, чем сдать ее неприятелю.
– А как же мы будем вести переговоры о мире, – спросил Румянцев, – если визирь останется в крепости?
– Визирь готов для окончания переговоров покинуть крепость и отправиться в другое место.
– Это место должно быть в пределах, занятых нашими войсками, – сказал Румянцев. – Мы – победители, а когда побежденный просит о мире, он должен прийти к победителю. Я умею уважать храбрых противников, но должен настоять на этой формальности, причем отвечаю за безопасность визиря.
– Мой высокий начальник, – ответил адъютант, – не будет сомневаться в слове великого и храброго графа Румянцева, которого мы знаем.
Румянцев бросил взгляд на лежавшую пред ним карту и сказал:
– К юго-востоку от Силистрии лежит местечко Кучук-Кайнарджи; через него проходит большая дорога; я предлагаю вести переговоры там.
– Я не сомневаюсь, – сказал адъютант, – что мой высокий начальник примет это предложение; он лишь требует, чтобы путь к сношениям с великим падишахом, нашим могущественным повелителем, оставался для него всегда свободным.
– Это само собою, разумеется, – сказал Румянцев, – и на это я согласен.
Турецкий офицер поклонился, причем по восточному обычаю прижал открытую руку ко лбу, а затем Каменский снова проводил его к воротам крепости.
Немного времени спустя, адъютант визиря появился вторично и объявил, что визирь принял предложенные Румянцевым условия и тотчас же отправится в Кучук-Кайнарджи, чтобы там покончить переговоры о мире. Турки признали решительную необходимость мира, так как победоносному войску Румянцева почти беспрепятственно был открыть путь на Константинополь. При этом визирь потребовал лишь того, чтобы ради его полной свободы, независимости и внешнего представительства ему было разрешено взять вместо переговоров его личную турецкую стражу и сохранить ее на все время его пребывания в Кучук-Кайнарджи.
Румянцев согласился на это требование и тотчас же послал в Кучук-Кайнарджи приказ приготовить там все для достойного и блестящего приема облеченного полною властью турецкого уполномоченного. Затем он отправился к Салтыкову, который уже настолько оправился от своей раны, что мог уже свободно двигаться, хотя на его руке все еще была повязка.
– Вы привели мне войска, генерал, – сказал фельдмаршал, – которые дали мне возможность начать битву и одержать победу; вы первый сошли на неприятельский берег; вы захватили знамя великого визиря, на вашей стороне право диктовать врагу условия мира. Вы знаете, что требует государыня, знаете, что мы ни в чем не можем уступить и что турки в настоящее время должны согласиться на все наши требования. Отправьтесь с визирем в Кучук-Кайнарджи и заключите мир. Когда все будет готово, я подпишу свое имя под этим почетным документом, на что имею право, как главнокомандующий, но вы доставите государыне весть о покорении турок и о своем участии в последних переговорах.
Глубоко тронутый Салтыков пожал руку Румянцева и с радостно блестящими глазами сказал:
– Вы и представить себе не можете, какое благодеяние вы оказываете мне этим почетным поручением; быть может, мои незначительные заслуги слишком высоко оценены вами. Но будьте уверены, что во мне вы найдете друга на жизнь и на смерть.
– Моим всегдашним правилом было никогда не нуждаться в дружбе, – возразил Румянцев, – но, тем не менее, я умею ценить ваши достоинства и на этот раз мое правило поколеблено; на этот раз я нуждался в опоре и вы пришли мне на помощь.
Одно мгновение оба генерала, крепко сжав руку друг другу, молча стояли один против другого, и в этом рукопожатии соединились гордое мужество, мужская сила и глубокая преданность – качества, редкие в истории народов, качества, которые едва мог найти происходивший из старинного знатного русского рода великий преобразователь России – Петр Великий, и которые с полным успехом и с пылкой самоотверженностью оказывались к услугам незначительной немецкой принцессы, державшей в своей нежной руке, как казалось, вполне легко, играючи, но вместе с тем твердо и уверенно скипетр неограниченной власти.
Вскоре раскрылись ворота крепости и из нее выехал великий визирь Моссум-оглы в сопровождении своего штаба и трехсот черкесских всадников в чешуйчатых панцирях.
Русская армия была выстроена и приветствовала неприятельского главнокомандующего трубами и барабанным боем.
Румянцев быстро подъехал к нему. Визирь с достоинством ответил ему на поклон и некоторое время оба серьезным, испытующим взглядом смотрели друг на друга. Моссум-оглы, хотя сам отлично владел французским языком, заставил своего адъютанта перевести на турецкий язык слова Румянцева, а также свой сказанный по-турецки ответ; его гордость возмущалась необходимостью говорить на языке неверного народа с победителем, требованиям которого он должен был подчиниться со скрежетом зубовным.
Румянцев представил ему генерала Салтыкова, как уполномоченного для ведения переговоров, сказав, что тот будет сопровождать его в Кучук-Кайнарджи. Моссум-оглы с почтением склонил свою голову пред храбрым противником, который так жестоко угрожал ему в бою и чуть было не взял в плен.
Затем двинулись в путь. Визирь ехал впереди со своей свитой, причем Румянцев проводил его до выхода из русского лагеря. Салтыков, бывший еще не в состоянии долго сидеть на коне, следовал в карете, окруженный двумя эскадронами кирасир, служивших ему почетной стражей. Весь поезд быстро двигался по дороге по направлению к северу.
В Кучук-Кайнарджи со всей спешностью были возведены и возможно удобно и роскошно устроены деревянные строения для временного пребывания визиря, Салтыкова и сопровождавших их лиц. Русские и турецкие солдаты заняли караулы; храбрые воины, померявшиеся силами во многих сражениях, теперь смотрели друг на друга хотя и мрачно, но с вполне доброжелательным уважением.
На следующий день Салтыков, в сопровождении своего адъютанта, явился к визирю с визитом. Моссум-оглы, окруженный своим штабом, принял его со всеми церемониями турецкого этикета; он встретил русского генерала у дверей своего помещения, находившегося посредине деревянного дома, грубые стены и пол которого были покрыты тяжелыми персидскими коврами; подушки, положенные одна на другую, служили сиденьями.
Визирь знаком пригласил Салтыкова сесть возле него, причем офицеры свиты обоих остались стоять полукругом. Затем он ударил в ладоши, прислужник, заведующий кофе, тотчас же принес в маленьких чашках ароматический арабский напиток, который, по турецким обычаям, подается гостю тотчас же после его прибытия; заведующий курением принес длинные, уже маленьким угольком зажженные трубки, а когда аромат табака и кофе наполнил помещение, визирь через своего переводчика, с соблюдением всех церемоний, спросил о здоровье Салтыкова и выразил желание, чтобы его рана совершенно зажила как можно скорей. Салтыков ответил, опять через посредство переводчика, в том же вежливом и любезном тоне, причем не скрыл желания, чтобы было возможно скорей преступлено к переговорам о мире.
Визирь некоторое время глубокомысленно смотрел вниз, а затем с повелительным жестом произнес несколько слов по-турецки; тотчас же офицеры его свиты, скрестив руки на груди, удалились.
Сейчас же и Салтыков велел своим адъютантам удалиться из помещения, идя навстречу желанию визиря, которому хотелось остаться с ним наедине.
– Для меня было бы неприлично пред моими солдатами и здесь, при нашей первой встрече, – заговорил визирь на чистом, беглом французском языке, – объясняться с вами на иноземном наречии; но вы – храбрый воин, генерал, и, мне кажется, мы лучше поймем друг друга и скорее придем к концу, если будем беседовать с глаза на глаз и если наши слова не будут передаваться через третье лицо. Неотвратимой и необъяснимой воле судьбы, управляющей миром, угодно было дать вам победу надо мной; мой народ нуждается в мире и мой всемилостивейший повелитель-падишах не может продолжать войну, не искушая Аллаха и не навлекая на нас Его гнева. Изложите свои требования и подумайте о том, что даже побежденного противника надо уважать и что неразумно доводить великий народ до отчаяния.
– Благодарю вас, ваша светлость, за искренность и доверие ко мне, – ответил Салтыков. – Отвечая в том же духе, я сейчас же обозначу вам крайний предел наших требований; от них мы решительно не можем отказаться, даже подвергаясь опасности продолжать войну, в которой мы, судя по теперешнему положению дел, должны остаться победителями, но которая все-таки стоила бы нам бесчисленных жертв. Государыня императрица, моя августейшая повелительница, требует, прежде всего, – продолжал он, причем визирь, внимательно прислушиваясь к его речи, наклонил немного голову в бок, – свободного плавания для русских судов по Черному и другим турецким морям, точно так же, как и свободного, беспрепятственного прохода их через Дарданеллы.
Визирь с прежним неподвижным выражением в лице возразил:
– Это равносильно тому, что мы сами предадим в ваши руки столицу своего государства, ключ своего могущества, безопасности самого падишаха.
– Ваша светлость! Быть может, вы были бы правы, – сказал Салтыков, – если бы мы теперь намеревались заключить мир с задней мыслью нарушить его. Но такой задней мысли нет у нашей государыни; мы померили свои силы в тяжелом бою, а теперь мне кажется лучше и достойнее двух великих народов соединить свои силы для ограждения европейского Востока от коварства и насилия западных народов, видящих в Турции и России только добычу, которую они желали бы использовать для своих выгод. Государыня императрица не только желает мира; она предлагает союз, который обоим союзникам должен принести большую пользу, если они сообща согласятся вести торговлю в Черном море: другу можно открыть двери своего дома.
– Друг приходит безоружным, – возразил визирь, – он кладет свое оружие у порога двери гостеприимного дома.
– Так оно и будет, – ответил Салтыков, – государыня императрица требует свободного пропуска через Дарданеллы только для своих торговых судов, а в морях у Константинополя должно стоять только одно боевое судно, представляющее собой знак почетного внимания, а не опасность для союзника.
Визирь глубокомысленно опустил голову на грудь.
– Я принимаю условия, – сказал он затем, – я принимаю их, так как верю вашим словам, генерал, и еще потому, что для моего повелителя и моего народа в открытом и крепком союзе с храбрым русским соседом я вижу более чести и пользы, чем в бесполезной дружбе с коварными, лицемерными англичанами и бессильными французами, которые никогда еще не оказали нам серьезной поддержки в нужде.
После этого Салтыков заявил:
– Я должен дальше выговорить для императрицы Азов, Таганрог и Кинбурн; все остальные владения, занятые нами, после заключения мира будут очищены от наших войск.
Визирь наклонил голову и сказал:
– Азов, Таганрог и Кинбурн в ваших руках, у нас нет власти отнять их у вас; по справедливости победитель имеет право предъявлять свои требования на вознаграждение я принимаю эти условия.
– Этим оканчиваются наши требования, – продолжал Салтыков. – Однако еще не все, – сказал он с некоторой нерешительностью. – Императрица в своем великодушии считает своей обязанностью позаботиться и о тех союзниках, которые в настоящую войну оказали нам содействие, и спасти их от мести, которая могла бы угрожать им.
Визирь насторожился.
– Крымский хан, – продолжал Салтыков, – стал под защиту государыни императрицы…
– Крымский хан – бунтовщик, дерзко нарушивший свои верноподданнические обязанности по отношению к нашему всемилостивейшему падишаху, – воскликнул Моссум-оглы.
– Он выговорил себе признак своей независимости, – возразил Салтыков. – Он утверждает, что Турция не имеет никакого права требовать от него уплаты податей и послушания.
– Он лжет! – воскликнул Моссум-оглы. – Разве в течение ста лет его предшественники не платили дани и с благодарностью не пользовались могущественной защитой падишаха? Разве он – не последователь Магомета, которого на земле представляет падишах, как повелитель всех правоверных?
– Это безразлично, – спокойно, но тоном, выражавшим непоколебимую решимость, сказал Салтыков. – Не мое дело входить в обсуждения вопроса о верховной власти Турции над крымскими татарами; государыня императрица, моя августейшая повелительница, требует, чтобы отныне эта зависимость была прекращена. Крым – ворота, через которые можно проникнуть в русское государство; он был бы постоянной угрозой нашей навигации в Черном море и вследствие этого постоянным спорным вопросом, постоянным препятствием к дружбе и союзу, которые отныне, как вы, ваша светлость, признали это, должны соединять Россию и Турцию. Наоборот, нейтральное государство, которое должно поддерживать дружеские сношения с обоими соседями, не требуя ни от одного из них защиты против другого, является порукой прочной, твердой дружбы, причем исключаются всякие враждебные недоразумения на границах. Потому я полагаю, что желательно было бы также и для высокой Порты, чтобы Крым стал независимым, нейтральным и вследствие этого даже посредническим государством.
– Нейтральным, независимым государством, – сказал Моссум-оглы почти про себя. – Но может ли Крым остаться таковым? Не может, – продолжал он уже громко, – ту зависимость, ту защиту, которой крымский хан не признает по отношению к Турции, он будет искать у России или будет вынужден сделать это.
– Мы не заключаем договоров с мыслью нарушить их потом, – гордо заметил Салтыков.
– Часто не люди нарушают эти договоры, – возразил Моссум-оглы, – а обстоятельства и необходимость исторических условий. Я признаю, что ваше требование вполне справедливо, что выставленные вами доводы говорят в пользу него и что великодушию императрицы свойственно ставить такие условия. Но, соглашаясь на них, я беру на себя тяжелую ответственность; могущественный падишах скорей готов отказаться от части своих владений, чем освободить от его священных обязанностей взбунтовавшегося подданного, который должен чтить в нем не только своего земного повелителя, но верховного покровителя его духовной жизни и веры. Мне будет очень трудно склонить падишаха к принятию этого условия.
– Если бы государыня императрица желала унизить Высокую Порту, умалить или разрушить могущество падишаха, – сказал Салтыков, – то, быть может, слова вашей светлости были бы справедливы; но так как моя августейшая повелительница приказала мне заключить мир с ее царственным другом и союзником, то желание ее императорского величества, вытекающее из ее великодушия и не заключающее в себе никаких политически выгод, должно быть понято иначе.
Моссум-оглы, мрачно потупившись, смотрел пред собой.
– Я рискую многим, принимая эти условия, быть может, даже немилостью и изгнанием, – сказал он, – но все-таки я решусь; я исполню личное желание императрицы, но, в свою очередь, тоже буду просить ее об исполнении одного моего личного желания.
Салтыков с удивлением посмотрел на визиря. В его удивленных глазах появилось выражение мучительного разочарования; ему стало грустно, что и этот столь мужественный и гордый воин хотел получить вознаграждение, из-за которого решился принять условия врага.
– Выслушайте меня, генерал, – сказал визирь. – У меня есть дочь; ее мать была рабыня-гречанка, исповедовавшая христианскую религию; она была похищена и привезена в мой гарем. Я любил ее, как свет своих очей; она была красива как роскошная пальма, нежна как цветущие розы и также любила меня, хотя в сердце своем поклонялась другому Богу. Я любил ее так сильно, что не осмеливался влиять на ее душу; я терпел, что в своем помещении она скрывала крест, пред которым молилась; а молилась она за меня и за ее ребенка, за ребенка, которого подарил нам Аллах. Но коварная болезнь унесла ее, когда ее ребенку, маленькой Зораиде, было только два года. Мы привыкли со смирением подчиняться судьбе и прославлять Аллаха независимо от того, дает ли Его всемогущая рука или отнимает. Но все же я едва мог оправиться от удара, так как цвет моей жизни был надломлен. Позвольте мне умолчать о своих страданиях! Всю любовь, которая еще оставалась в моем сердце, я перенес на ребенка. Волею падишаха я был назначен визирем и принужден был выказывать строгость и жестокость, так как большое государство не может быть управляемо мягкостью, но для моего ребенка у меня была только любовь, ничего иного, кроме любви. Зораида с каждым днем становилась все более похожей на мать, и, когда она смотрела на меня своими кроткими глазами, мне часто хотелось взять крест ее матери, который я хранил как святыню, и вложить его в руки Зораиды, чтобы она молилась за меня, как молилась та. И вот, – продолжал он, подавляя свое сильное волнение, – этот ребенок, моя красивая, нежная Зораида, был похищен у меня, когда генерал Вейсман напал из Силистрии на наш лагерь. Я сделал все возможное, чтобы вернуть свою дочь; я предлагал большой выкуп, но мне отказали в моей просьбе и, как я узнал через лазутчиков, моя дочь была отправлена в Петербург и государыня взяла ее к себе. Правда, императрица обращается с ней хорошо и ласково, но моя дочь все же стала рабыней в стране врага своего отечества, и я не могу видеть ее чудесные глаза, слышать ее нежный голос! Это горе терзает мое сердце, быть может, оно-то и затемнило мой разум, обессилило мою волю, надломило мою твердость настолько, что я, несмотря на превосходство сил, дал себя победить… Быть может, счастье покинуло меня потому, что тогда я не сумел уберечь свое дитя. Я не могу забыть Зораиду, решительно не могу, а так как несчастье пало на мою голову, победа покинула меня и судьба послала мне столь тяжкое унижение, то я хочу на дальнейшую свою жизнь отказаться от величия и власти и удалиться в одиночество. Но пусть мое дитя будет со мной и из его очей я буду черпать утешение и покой душевный. Я готов подписать ваши условия относительно Крыма, но прошу государыню императрицу вернуть мне мое дитя.
Глубоко тронутый Салтыков пожал руку визиря и воскликнул:
– Вам вернут вашу дочь! Я доложу государыне императрице о вашей просьбе.
– Мне сказали, – продолжал визирь, – что государыня любит мою девочку. Да впрочем, как бы и могло быть иначе? Что, если она откажет в моей просьбе…
– Она не сделает этого, – воскликнул Салтыков, – клянусь вам в этом! Я ручаюсь вам своим словом и честью, что сам, после утверждения мирного договора, привезу вам вашу дочь.
– Хорошо, генерал! – сказал визирь. – Я привык уважать вас в бою и вследствие этого отнесся к вам с полным доверием: я верю и теперь вашим словам и поручаю вашей чести счастье моей жизни. Составим договор, я готов подписать его.
Он захлопал в ладоши. Его офицеры и адъютанты Салтыкова снова вошли в помещение.
В нескольких словах визирь объяснил, что пришел к соглашению с русским уполномоченным по поводу условий мира и в силу данной ему власти заключает договор, который отправит падишаху на утверждение.
Установленные условия были написаны на французском и турецком языках Салтыковым и переводчиком визиря.
Турецкие паши и беи мрачно устремили свои взоры к земле, когда услышали, чего потребовал победитель; но визирь спокойно склонил голову и объявил, что отныне заключен союз между всесветным падишахом и могущественной всероссийской императрицей, вследствие чего все турецкие и русские подданные с этих пор тоже должны быть друзьями.
Салтыков подписал документы. Снова слуги принесли кофе и трубки, а затем еще некоторое время просидели в дружеской беседе все эти воины, до этого времени часто встречавшиеся в беспощадных боях.
Еще в тот же самый день Салтыков покинул Кучук-Кайнарджи, чтобы вернуться к Румянцеву.
Фельдмаршал обнял его с искренней благодарностью и поручил ему свезти императрице весть о победе и получить от нее одобрение и утверждение столь быстро заключенного почетного мира. Громкие клики радости раздавались по русскому лагерю, когда Салтыков в своей дорожной карете, сопровождаемый сотнею казаков, выехал по дороге по направлению к Петербургу.
Также и Моссум-оглы тотчас отправил курьера в Константинополь, а затем одиноко заперся в своем помещении. Он известил своего врача, что болен и нуждается в покое.
Гордый мусульманин избегал встречи со своими соотечественниками, которых он вел на бой с надеждами на победу и для которых теперь, вынужденный тяжелой необходимостью, он подписал невыгодный мир по требованию победителей – презренных гяуров.
Глубокая тишина, царившая в Кучук-Кайнарджи, была нарушена на третий день прибытием блестящего отряда всадников. Во главе ехал бледный, мрачного вида человек с черной, жидкой бородой; его темные глаза смотрели холодно и маловыразительно, тонкие губы были крепко сжаты, а кафтан сиял богатым золотым шитьем. На нем была зеленая чалма с султаном паши; множество турецких офицеров и большой обоз со слугами и вьючными лошадьми следовали за ним. Он спросил у турецких солдат, где квартира визиря, подъехал к деревянному дому, слез с лошади и, прежде чем слуги могли доложить о нем, вошел в помещение, где Моссум-оглы, глубоко погруженный в свои мысли, сидел на оттоманке; при этом сопровождавшие пашу остались у входа и серьезными, торжественными поклонами приветствовали офицеров визиря.
Моссум-оглы вскочил и хотел выпроводить вошедшего, но, увидев зеленую чалму и знак паши, поднял руку для приветствия, хотя его удивленные глаза показывали, что нежданный гость был совершенно незнаком ему.
– Мир тебе, светлейший визирь, – сказал паша, – Аллах да подкрепит тебя Своей мощью, чтобы ты достойно и покорно, как подобает правоверному, принял печальную новость, которую я тебе привез. Пресветлый падишах Мустафа покинул земную жизнь и вознесся в блаженные высоты рая, а его брат и законный наследник Абдул Ахмед опоясан мечем Пророка и владычествует, как преемник калифов, над нами и всеми правоверными.
Моссум-оглы стоял некоторое время в полном оцепенении; Мустафа с самой юности был его милостивым другом и защитником; пред ним он конечно готов был отвечать за заключенный мир, к которому его принудили. Но Абдулу Ахмета он не знал; наследник скрывался в глубине сераля, и визирь лишь редко видел его. Теперь Моссум-оглы стоял пред неизвестным, темным будущим, которое подобно черной туче расстилалось пред ним.
– Да будет хвала Аллаху, – сказал он, наконец, – что Он решит – хорошо и мудро. Насколько я, как и все правоверные, скорблю о потере всемилостивейшего падишаха Мустафы, настолько я молю всем сердцем Аллаха, да защитит Он великого нашего повелителя Абдулу Ахмета.
– Да защитит его Аллах, – сказал незнакомец, – и да пошлет ему снова победу, которую Он отнял у наших воинов!
Моссум-оглы вздрогнул от холодного, резкого тона, которым незнакомый гость произнес эти слова.
– А кто ты? – спросил он последнего, – как мне называть гостя, которого я приветствую всем сердцем, несмотря на привезенные им печальные вести? Я вижу знаки твоего почетного положения, но никогда не видел тебя в Стамбуле.
– Я – Молдаванчи-паша. Ты, конечно, не видел меня, светлейший визирь, так как ты сидел в высоком совете падишаха, я же был только бедным слугой милостивого Абдулы Ахмета; но на меня он направил лучи солнца своей милости, как только Аллах возвел его на трон калифов.
Моссум-оглы наклонил голову, а затем ударил в ладоши, после чего были принесены кофе и трубки. Наконец он попросил своего гостя занять место возле него на диване.
– Всемилостивейший падишах, – сказал тот, затянувшись несколько раз своей трубкой из янтаря и розового дерева, – приказал мне сообщить тебе, что ты, светлейший визирь, должен тотчас отправиться к нему в Стамбул и сделать свое донесение; я же должен остаться здесь на твоем месте, чтобы предводительствовать войском. Беи, которых я привел с собой, будут сопровождать тебя, а твои адъютанты останутся при мне, чтобы помогать мне своими советами.
Моссум-оглы побледнел и быстро воскликнул:
– Значит, я – пленник? Значит, я смещен?
– Я ничего подобного не слышал от всемилостивейшего падишаха, великий визирь, – возразил Молдаванчи-паша. – Неужели ты находишь удивительным, что падишах, вступивший в управление своим государством, призывает к себе своего великого визиря?
– Нет, – ответил Моссум-оглы, – он прав и еще сегодня я последую его приказу.
– Это – твоя обязанность, – сказал Молдаванчи, – и ты хорошо поступишь, исполнив ее как можно скорей; этим ты удостоишься счастья видеть лучезарный лик нашего нового повелителя. Вот приказ падишаха.
Он достал из своего кармана футляр, осыпанный драгоценными камнями, вынул из него большую грамоту, к которой на красной и зеленой ленте была прикреплена большая печать падишаха, и передал ее визирю.
Моссум-оглы поцеловал пергамент и быстро прочитал содержание рукописи. Затем он ударил в ладоши и приказал вошедшему слуге:
– Приготовить моих коней к отъезду!
– А я прошу тебя, светлейший визирь, – сказал Молдаванчи-паша, – передать мне командование над войском на время твоего отсутствия.
– Войском? – сказал Моссум-оглы, – триста человек моих телохранителей и осажденные в Шумле – вот и все войско. Судьба решила наше поражение, и я заключил мир и союз с русской государыней, что, как я убежден, будет лучше для нас, чем долгие раздоры.
– Я встретил твоего посланца, – холодно произнес Молдаванчи. – Ты еще вовремя прибудешь в Стамбул, чтобы донести падишаху об этом печальном событии.
– Ты позволишь мне, благородный паша, пред отъездом сказать несколько слов на прощанье великому русскому полководцу Румянцеву? Мы научились уважать друг друга в бою и он был великодушен в условиях мира.
Молдаванчи-паша посмотрел снизу вверх в лицо визиря, несколько мгновений был словно в нерешительности, но затем сказал:
– Ты властен поступать, как тебе нравится, великий визирь; я не имею никакого права давать тебе разрешения.
Моссум-оглы велел позвать своих адъютантов и представил им Молдаванчи-паша, как нового главнокомандующего, которому они должны были повиноваться. Затем он на несколько мгновений удалился в свое помещение, пока на дворе спешно велись приготовления к его отъезду.
– Быть может, это – мое падение, – сказал себе визирь, – быть может, меня ждет немилость или изгнание, или, быть может, даже смерть. Теперь еще не имеют власти надо мной и, если бы я доверился Румянцеву и попросил его дать мне убежище в России, я был бы вне всякой опасности. – Он взволнованно прошелся несколько раз по комнате, после чего воскликнул: – нет, неужели визирь Высокой Порты вдруг будет просить у врага убежища? Моя жизнь была бы в безопасности, но мое имя было бы заклеймено навсегда; разве не стали бы считать эту проигранную битву и заключенный мир недостойной изменой? Ведь правдивость такого суждения была бы на их стороне. Что сказали бы христиане, с какой насмешкой, с каким состраданием они стали бы смотреть на меня, выступившего против них с сотнями тысяч воинов, которые уже почти все погибли, если бы я стал еще молить их дать мне приют. Нет, за то, что я сделал, я сам понесу ответственность и все, что Аллах пошлет мне, я перенесу, как подобает гордому и храброму мужу. А Зораида? – сказал он вдруг, причем его лицо подернулось глубокой печалью, – что будет с ней, если меня постигнет наихудшее?..
Снова он долго ходил взад и вперед, прижав руки к лицу, затем взял из шкатулки, стоявшей на низеньком столе, лист бумаги и по-европейски устроенный письменный прибор. Быстро забегала его рука по бумаге, а когда он кончил, на письмо из его глаз скатилась слеза.
Он запечатал письмо и только что успел спрятать его в свой кафтан, как вошли слуги доложить, что все готово к отъезду.
Серьезно простился Моссум-оглы со своими офицерами, которые с глубоким волнением пожали его руку, отдал холодный и торжественный поклон Молдаванчи-паше, а затем отправился в путь, сопровождаемый беями, которых тот привез с собой в лагерь.
Румянцев принял визиря со всеми знаками уважения и с печальным удивлением выслушал весть о смерти Мустафы, восшествии на престол Абдулы Ахмета и отозвание Моссума-оглы в Константинополь.
– А мир, – сказал он, – мир, который мы заключили?
Визирь, отбросивший теперь свою сдержанность и свободно говоривший с русским полководцем по-французски, сказал:
– Будьте покойны, мир будет утвержден; то, что я должен сделать, сделает за меня мой преемник, Молдаванчи-паша, которого падишах Абдул Ахмед прислал на мое место. Но и к вам, генерал, у меня есть просьба.
– Говорите! – сказал Румянцев, – всякое желание вашей светлости будет исполнено мной.
– Вот, – сказал визирь, – я передаю вам это письмо и прошу вас тотчас же послать его с верным человеком в Петербург и позаботиться о том, чтобы оно было без замедления передано в руки самой императрицы.
Румянцев с удивлением вопросительно посмотрел на него.
– Я понимаю ваше удивление, – сказал Моссум-оглы, – но поверьте моему слову, это письмо не заключает ничего политического, ничего, касающегося нашего договора. Это – личная, совсем личная просьба… мое духовное завещание, – глухо добавил он.
– Положитесь на меня, – сказал Румянцев, пожимая руку визиря и с печальной озабоченностью глядя на его искаженное страданием лицо.
На одно мгновение визирь удержал его руку и сказал:
– Прощайте! Вы были моим врагом, вы победили меня, но все-таки я молю Аллаха, чтобы Он даровал вам славу и победу и никогда не дал вашей государыне забыть, чем она вам обязана.
Он быстро отвернулся. Румянцев довел его до выхода из палатки, где Моссум-оглы ждала его турецкая свита.
Русские войска взяли на караул, барабаны забили, а Румянцев с обнаженной головой стоял, пока визирь, еще раз попрощавшись с ним, дал шпоры своему коню и помчался мимо крепости Шумлы по дороге к Константинополю.