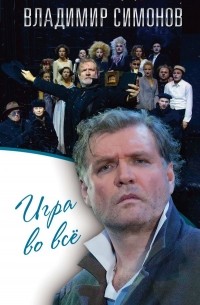Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Полеты во сне и наяву
К бабушке меня отвезли, потому что детский сад, куда мама с папой собирались меня отдать, я отверг сразу. Не захотел в него ходить. Как меня ни уговаривали, как ни объясняли, что там такие же дети, как я. Там же и добрые воспитательницы, веселые игры, книжки читают, пляшут, поют и поесть детям дают. А на присадовской площадке даже качели, а по праздникам встречает ребятишек какой-то большой бегемот, говорящий голосом директора детского сада. Нужно только днем спать, потому что «тихий час». А по выходу на прогулку всякие встречные маленькие дураки, эти местные хулиганы, строят рожи, громко хохочут и кричат: «Детский сад, детский сад, половина поросят!» А в остальном – почти все так же, как у бабушки в Костычах. Но уговорить меня не удалось. Я наотрез отказался ходить туда, где веселые игры, добрые тетеньки-воспитательницы, книжки читают, большой бегемот и надо зачем-то днем спать. Хотя бы половинным поросенком я тоже себя не считал. Так что очень не понравилась мне моя возможная жизнь в самом обычном советском детском саду. Решительно заявил, что это все не по мне. Не без значительного объема пролитых слез.
А то, что мама с папой приезжали к бабушке с дедушкой только на субботу и воскресенье, было для меня вообще колоссальной трагедией, которая правила всей моей жизнью. В сознании не укладывалось, что они так редко приезжают не потому, что не хотят меня видеть, а потому, что оба работают. Отец – машинистом на тепловозе, мама – секретарем по идеологии Октябрьского городского комитета КПСС, высокая должность по тем временам.
Когда они уезжали, со мной случалась истерика. Часа три бабушка не могла меня успокоить. Я плакал; очень сильно переживал. Она мне говорила, что скоро мама с папой приедут опять, а мне казалось, что они уехали навсегда, я никогда их больше не увижу и обречен всю жизнь прожить без моих любимых родителей.
Конечно, это все давно ушло, но и… не ушло. Моя внутренняя природа сохранила переживания детства, и явственные отзвуки этих переживаний в моих несчастных персонажах – от Поприщина до Минетти. Печаль и грусть из-за несправедливости мира…
О конце жизни я тоже задумывался. Мне было лет пять-шесть, когда такие мысли стали тревожить меня. Я стал задумываться, что жизнь когда-нибудь кончится и ничего больше не будет. Совсем ничего. Темная и ужасная пустота. Бабушке я не говорил о том, какие мысли посещают меня. Я просто не спал и ночью смотрел в окно. От страха. От непонимания. Я не понимал, зачем жить, если есть неизбежный финал.
И еще эти местные похороны, обставленные так, что почти все жители участвуют в них. Скорбная процессия проходила под нашими окнами. За гробом шли безутешные родственники во всем черном, а за ними все остальные. Это теперь в городах мы не видим ничего подобного, а тогда все происходило на глазах у всех, и мы, мальчишки, бегали за гробами… Играли, так сказать, в то, чему названия, наверное, не существует.
Я потом не раз вспоминал, как это было. Как процессия по улице шла, а мы бежали за ней неизвестно для чего. Бегу, а у самого сердце от страха, от грусти сжимается. Мне кажется, что не надо мне этого делать, но все равно бегу. За компанию. Наверно, психика у моих друзей была крепче, чем у меня. Они не так близко к сердцу принимали происходящее. Я же воспринимал более эмоционально, и вот эта эмоциональность до сих пор дает о себе знать. Если я в жизни эмоционально перегружаюсь, мне потом тяжело. Поэтому некоторые вещи стараюсь держать на расстоянии. По возможности избегаю сильных стрессов, хотя избежать бывает очень трудно. Избегаю по возможности и таких вопросов, на которые нет ответа. Мне лучше мимо пройти какого-то события, а не быть в нем. Возможно, из-за моего духовного несовершенства… Не знаю… Это очень сложно.
Приходилось мне и смерть играть, не раз приходилось. В «Борисе Годунове», в других спектаклях. В кино меня тоже неоднократно «убивали». Говорят, что дурная примета: изображать уход человека из жизни. Но роль того требует, и для профессионала изображение любого состояния человеческой жизни, человеческой психики не является чем-то из ряда вон выходящим.
Иногда начинаю немного сомневаться: а нужно ли мне это? Скажем, «умирать» по вечерам на сцене. А потом думаю, что это ведь приметы, суеверие. В них нельзя верить. Чем сильнее человек в них поверит, тем больше вероятность, что они сбудутся. Загадка чисто психологическая. Поэтому важно не впускать такое в себя. Твоя психика победит, если отбрасывает всякие приметы и суеверия. А если наоборот, то она сдается, и тогда жди худшего. Вот черная кошка дорогу перебежала, ну и бог с ней: кошкам нельзя объяснить, что перед человеком она никакой дороги не должна перебегать. Или еще говорят: в квартире не свисти, денег не будет. Но никто не знает, каким образом связан комнатный свист с пополнением семейного бюджета или как он влияет на финансово-экономический кризис в стране.
Тем не менее огромное количество вещей, событий, явлений пропускаю через свое сердце. Когда я не так давно пришел в больницу, врач у меня спросил: «Вы что, штангой занимались?» «Нет, не занимался, – говорю я. – Я вообще никаким спортом никогда не занимался. Плавал часами в Волге и в Черном море, на велосипеде «Орленок» в детстве по Октябрьску гонял, играл в волейбол, в шахматы. Машину, «Победу» с брезентовым верхом (редчайшая модель), отец научил водить, когда мне было двенадцать лет. А в профессиональном смысле – не помню никакого спорта. Я и на уроках физкультуры был два или три раза. Поэтому, извините, не было никакой штанги». «А сердце у вас, – говорит врач, – как будто вы всю жизнь поднимали ее…»
Он верно заметил. Штангисты поднимают сотни килограммов железа. Нагрузка чудовищная. Неестественная. Я же никогда ничего подобного не делал, но пропускал через сердце огромное количество вещей. И это тоже неестественная нагрузка. Специалист, хорошо разбирающийся в загадочных зубцах кардиограммы, это сразу обнаружил. Значит, и детские мои страхи, и все мои переживания, и всё, чем я профессионально занимаюсь почти сорок лет, дало свои медицинские результаты, кроме всех других, для меня самых главных. Нагрузка на актера сродни поднятию тяжестей, но тяжести эти совсем иного рода. А по-другому играть не умею. Такова моя природа. Я о ней все время говорю. Могу существовать как актер только внутри своей природы. Какой я человек, так и играю. Только всем сердцем.
Все это было заложено в моем детстве. Еще до школы.
В первом классе страшно стеснялся поднять руку и сказать: «Можно выйти?» Я такое скажу, и сразу все догадаются, зачем мне надо выходить. И девочки, и мальчики. Все тридцать с лишним человек. Какой стыд! Я понимал, что другие запросто могут попроситься, а я почему-то не могу, что-то удерживает меня… А уж если вспомнить о том, как я в восьмом классе впервые пригласил девочку на танец, то тут вообще Волга из берегов вышла. Чтобы я подошел к ней и осмелился ее пригласить, не помню, на какой танец, но, кажется, на медленный…
И вот эта стеснительность – тоже в моей природе. С одной стороны. А с другой, считаю себя человеком очень отважным. Обе противоположности уживаются во мне, органически сосуществуют. Одно компенсирует другое. Плюс и минус крутятся один возле другого, тянутся друг к другу и дают заряд. В моих работах это очень чувствуется, во всех, но особенно в последних. Я в этих работах все время на грани, еще чуть-чуть, и за ней окажусь, но отчего-то не оказываюсь. Как однажды Михаил Александрович Ульянов сказал, когда мы выпустили «Мадемуазель Нитуш», я играл там с Марией Ароновой. Ульянов сказал: «Это, конечно, дико смешно, но ты, Володь, прямо на грани!» – «Да, на грани, Михал Саныч». У меня в спектакле была роль полковника Альфреда Шато Жибюса, солдафона с грубыми шутками. Он и с женщинами такой же, как с солдатами. Очень легко перейти эту грань, за которой образ пропадает, и остаются дурацкие, плоские шутки, а это уже не смешно. И «Дядя Ваня» не как трагический персонаж, а деревенский «фигляр», был сыгран мною на самой грани. (Открывали этим спектаклем театр «Et Cetera» Александра Калягина.) И мой профессор Серебряков в «Дяде Ване» в нашем Вахтанговском в постановке Римаса Туминаса. Этот мой, как где-то прочитал, «ложно-многозначительный Серебряков с цирковыми припрыжками и ужимками». Что не совсем или совсем не так. Да и, пожалуй, многие и многие другие мои роли, которые тоже на самой грани, но без выхода за нее. Я об особенностях некоторых своих работ расскажу в других главах книги.
Но все это, повторяю, оттуда, из детства. Где все, что вокруг, невероятно странно и непонятно, страшно и захватывающе интересно; и душа куда-то летит, и сердце сжимает от тех счастливых и страшных ощущений, которые бывают только в детстве. Фантазия и сны… Нельзя объяснить гениальный мистический театр, в котором человек не играет во всё, а живет всем. Иной раз что-то привидится, и я думаю, что нет человека в мире, у которого могут быть такие фантастические сновидения.
Людям много чего снится. Что это такое, почему так, никто не знает. Фрейд жизнь посвятил, чтобы разобраться, но и он не сумел. Один приятель рассказывал, что почти каждую ночь стал преследовать его троллейбусный контролер с головой осла; другой просыпался от ужаса, когда из-за угла выходила какая-то трехметровая фигура во всем белом; еще один никак не мог избавиться от навязчивого, вязкого, почти как у Кафки, посещения им какого-то идиотского заседания, откуда он пытался убежать, но не мог: всякий раз мордатые охранники с бесшумным хохотом ловили в дверях… А я в своих снах оказываюсь в 365 тысячах километрах от дома. От комнаты, где сплю. Как туда попадаю, никаким объяснениям не поддается. Я вижу себя сидящим на Луне. Как такое может быть? А так и может, что сижу и с нее смотрю на Землю. Очень похоже на фантастический фильм. Вижу Землю, как в кино. Моря, океаны, горы, леса, города, улицы, людей, машины… Сижу и размышляю, насколько это интересно наблюдать земную жизнь с такого расстояния, с такой высоты. Оттуда, оказывается, все намного виднее. И в то же время знаю, что в любой момент могу ночное светило покинуть, вернуться на Землю, дойти до кровати и снова лечь спать. Абсолютно реально. Я холод чувствую необитаемой поверхности ночного светила. Но просыпаюсь не с криком, а спокойно и с улыбкой. Для меня это не сон, а что-то естественное… Вот в чем ужас радости или радостный ужас. И так, и так можно сказать.
А бывает, что я летаю. На не очень большой высоте над земной поверхностью, а все равно дух захватывает. И снова замечательные отголоски детства. Рядом с домом песчаная круча, и надо спуститься с этой кручи к воде. Я во сне стою, широко раскинув руки, на самом краю и думаю: «Прыгать или не прыгать? Разобьюсь или не разобьюсь?» И все-таки прыгаю и лечу над Волгой, а потом возвращаюсь. Самый сладкий сон в моей жизни. Сверкает поверхность воды, корабли, люди на берегу, вишневые деревья в нашем саду… Душа полетела, она умеет летать.