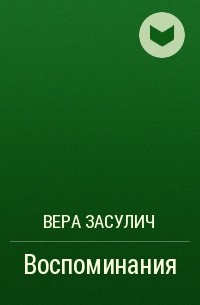Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Воспоминания о С. Г. Нечаеве
На Васильевском острове, кажется, в Андреевском училище для готовившихся в учителя давали предметные уроки обучения по звуковому методу. Черкезов познакомил меня с учителем, и я стала ходить на эти уроки. Однажды учитель зазвал человек 7–8 из слушателей, и меня в том числе, в свою квартиру.
– Надо поговорить о том, что следует читать учителям, что бы приготовиться к своей деятельности.
Выбрали вечер. Собралось нас в маленькой комнатке человек 10. За столом не хватило всем места.
Несколько человек сидело в сторонке на кровати, отдернув закрывавшую ее занавеску на шнурке. Эти учителя, – все очень молодые, не старше меня самой, – и раньше не представлялись мне особенными мудрецами. Теперь из начавшихся разговоров я увидела, что они очень мало знают, меньше меня самой.
Моя застенчивость быстро исчезла, поэтому я начала вмешиваться и оказалось удачно: меня слушали, и большинство становилось на мою сторону. Кто-то предложил читать по педагогии и назвал какую-то книгу. Один из сидевших в стороне от кровати, лицо которого показалось мне незнакомым (Яковлев161 назвал его учителем приходского Сергиевского училища162), возражал, я присоединилась к нему. Сторонники чтения по педагогии были немедленно побеждены. Педагогия – педагогией, но важнее самим то педагогам хоть немного разбираться в вопросах жизни. Но что же читать? Все как-то примолкли на минуту. Я начала тогда называть достойное по моему прочтения: «Исторические письма» Миртова163, печатавшиеся тогда в «Неделе», Милля с примечаниями Чернышевского, которого я в это время читала по вечером, придя с работы164. Пыталась я его читать еще в пансионе, но тогда дело шло очень плохо, – книга и тогда казалась мне понятной, но недостаточно интересной. Теперь я читала его так, как когда то уроки учила: прочту главу и расскажу самой себе ее содержание. Под конец, читая Милля, я начала иногда угадывать заранее, что именно возразит на то или другое место Чернышевский, и, когда удавалось, была очень довольна. Все, что называла, заслуживало полного одобрения Яковлева, нового господина на кровати и одного наиболее речистого из учеников; остальные молчали. Начали их расспрашивать, что они уже читали, и, оказалось, что очень мало, некоторые читали кое-что из Писарева, но ни, один не читал Добролюбова. Я сказала, что моя любимая статье Добролюбова «Когда же придет настоящий день».
– А когда же он придет? – спросил один из учеников. Я сказала, что Добролюбов думает, что при поколении, которое «вырастет в атмосфере надежд и ожиданий».
– При нас, значит, – заметил господин на кровати. Когда расходились он рекомендовался мне Нечаевым и просил прийти в Сергиевское училище.
– Что же, там тоже учителя собираются? – спросила я.
– Нет, учителя не собираются, но надо нам потолковать.
Через месяц или два имя Нечаева знало все студенчество и все общество, интересовавшееся студенческими историями. Но в это время оно не говорило мне ровно ничего. Пойти на его приглашение я не собралась.
Чуть не с самого появления саратовцев165 я уже слышала, что в этом году непременно будут студенческие волнения. Почему, для чего, – этого я добиться не могла, но этому радовались, и я готова была радоваться.
Собственно официально-признанные студенческие «беспорядки», обозначившиеся арестами нескольких человек и высылкой из Петербурга около сотни, кажется, студентов, произошли только весной166.
Не помню, С чего началось дело. Мои воспоминания уже застают студентов разделенными на два лагеря: «умеренных», – езеровцев и «радикалов», – нечаевцев. Езеровцы были в большинстве. Но и те, и другие, вместе взятые, составляли маленькое меньшинство среди студенчества.
Это была группа инициаторов, человек в триста167 подобравшаяся из студентов первого и второго курсов всех тогдашних высших учебных заведений Петербурга: университета, медицинской академии, технологического и земледельческой академии168.
Мне так тяжело, так тоскливо было говорить свои «невероятно это»… «не знаю»… Я видела, что он говорит очень серьезно, что это не болтовня) о революции: он будет делать и может делать, ведь верховодит же он над студентами?..
Служить революции – величайшее счастье, о котором я только смею мечтать, а, ведь, он говорит, чтобы меня завербовать, иначе и не подумал бы… И что я знаю о народе: бяколовских дворовых или своих брошюровщиц, а он сам из рабочих…
Быстро мелькали в голове взволнованные мысли.
– Но вы не отказываетесь дать свой адрес? – спросил замолчавший было Нечаев.
Об этом у нас была речь уже раньше. Я тотчас схватилась за это.
– Конечно, нет! Я ведь очень мало знаю и очень хочу что-нибудь делать для дела. Я не верю, чтобы из этого именно вышла революция, но, ведь, я и ни какого другого пути не знаю; я все равно ничего не делаю и буду рада помогать, чем только смогу.
Я, конечно, не помню в точности своих слов, но живо помню свое тогдашнее состояние. Ведь это был первый серьезный разговор о революции, первый шаг к делу, как мне тогда казалось.
Нечаев, видимо, обрадовался моей сдаче.
– Так по рукам, значит?
– По рукам.
Он вышел в другую комнату что-то сказать Аметистову. Я тоже встала и начала ходить по комнате. Он вернулся на свое место и вдруг сразу:
– Я вас полюбил…
Это было более, чем неожиданно. Как с этим быть? Кроме изумления и затруднения, как ответить, чтобы не обидеть, я ровно ничего не чувствовала и еще раза два молча прошлась по комнате.
– Я очень дорожу вашим хорошим отношением, но я вас не люблю, – ответила, наконец.
– Насчет, хорошего отношения, это – чтобы позолотить пилюлю, что ли?
Я не ответила. Он поклонился и вышел. Недоумение, в которое привел меня последний эпизод, как-то стерло, разбавило силу чувства, вызванного предыдущим разговором, и я, походивши еще немного по комнате, улеглась на диван и тотчас же заснула.
Утром за самоваром мы встретились с Нечаевым, как им в чем не было, – как будто никакого неделового эпизода вовсе и не было.
Дело в том, что каким-то инстинктом я его «полюбил» совсем не поверила и, так как думать об этом мне было почему то неприятно, я и не думала. Позднее я убедилась, что инстинкт подсказал мне правду. Нежные отношения, в которых не обошлось без признания в любви, были у него и в это время, и скоро после, за границей, в Москве. Невероятно, чтобы при этом огромное дело (в его намерениях, по крайней мере), которое он предпринял, полагаясь на одного себя, в его душе оставалось место для нескольких «любвей» или ловеласничанья. Вероятнее, что в некоторых случаях он признавался в любви, когда считал это нужным для дела.
По заповеди «катехизиса», – «революционер – человек обреченный, для него нет ни любви, ни дружбы, никаких радостей, кроме единой революционной страсти. Для революционера не должно быть никакой нравственности, кроме пользы дела. Нравственно все то, что способствует революции; безнравственно все, что ей мешает»…169 Если эти заповеди во время процесса вызывали и смех, и злобу, – так мало соответствовали они тому, что вышло в действительности, – то для самого то Нечаева «катехизис революционера» имел, мне кажется, реальное значение170. В том же документе «содействию женщин» придается огромное значение171. Но в предприятии, как он его задумал, помощь делу совпадала с помощью ему, с исполнением его внушений. При этом и тогда уже обман играл большую роль в его расчетах.
Меня, он, вероятно, еще раньше; задумал взять с собой за границу для помощи в различных сношениях. Ведь он случайно считал меня гораздо бойчее, развязнее, чем я была. Могла я еще пригодиться и знанием языков. Вели бы я выказала полнейший фанатизм к его планам, он, быть может, позвал бы меня за границу, и без признания в любви. Мою склонность сомневаться, хотя бы и при готовности помогать, он допытался уравновесить признанием, а когда и это не удалось, отложил намерение. Потом, однако, он все-таки прислал требование, чтобы я ехала за границу, но письмо было перехвачено, и узнала я о нем только в тюрьме.
Я могла бы решить, что, хотя мне и очень совестно лгать хорошим людям, но этого требует долг перед революцией. Ведь в том же стихотворении Рылеева, о котором я упоминала, я прочла тоже и наизусть выучила, также и следующие строки:
Но уже такой-то веры в свой план, чтобы я ради его осуществления, сочла нужным говорить не всю правду Герцену, Бакунину, – он ни в каком случае не мог мне внушить. Поэтому, вероятно, он и отказался от этого намерения.
Утром мы с Нечаевым встретились, как ни в чем не бывало, – как будто ничего подобного ночному эпизоду не было.
Прощаясь, Нечаев сказал мне, что письма могут приходить и не для него, если его и не будет в Питере.
– Кому же мне тогда отдавать их?
– Там увидите.
Прошло несколько дней. Помню, давался литературно-музыкальный вечер в пользу высылаемых студентов. Мне помнится, что аресты и. высылки начались позднее, но их ожидали, и вечер давался про запас, так сказать. Пела Лавровская, любимица всей тогдашней молодой публики. Не за один только голос ее любили, а в это время главным образом за то, что не хотела подчиняться своему положению актрисы: не принимала подарков. В наиболее читаемой тогда газете (там писали: Суворин, Буренин, и, вообще, у меня осталось от нее впечатление чего-то фальшиво-шутливого, притворно-легкомысленного, чего-то аналогичного «Новому Времени», каким оно было в либеральные времена) ей за это сделали выговор, а публика делала овации173.
И на этот вечер она пришла в гладком черном платье со стоячим воротником, так, как ходили тогда по праздникам «нигилистки». Пела «Тучки небесные… нет у вас родины, нет и изгнания». Приняв это за намек на тайную, известную всем питерцам, цель вечера, публика неистово аплодировала; аплодировали также Лерновой, начавшей с объяснения, что, хотя она, было, отказалась быть на вечере, но, узнав его истинную цель, пожелала участвовать в нем во что бы то ни стало. Потом что-то читали тоже соответственное. Вообще вечер был очень удачен.
Я пошла ночевать к Томиловой, вместе с нею и Анной174. Нечаев провожал нас.
В этот же день или, еще накануне я слышала, что Нечаева призывали и грозили ему, что, если сходки будут продолжаться, он будет арестован. На замечание Анны или Томиловой, что ему не следует ходить на них, он возразил, что это все равно: ему там сказали, что будет он ходить или нет, арестован будет во всяком; случае. Но вечером он был очень доволен и уверял, придравшись к какой-то фразе, которой публика аплодировала, что она готова требовать республики.
На другое утро я спала в первой комнате от передней, а Томилова в следующей), еще не совсем рассвело, когда, проснувшись, я увидела перед собой Нечаева с свертком в руке.
– Спрячьте это!..
Не решаясь вылезти из-под одеяла, я ответила:
– Хорошо, спрячу. – Но протянутого свертка не брала. На звуки голосов из своей спальни вышла Томилова и взяла сверток. Ничего не объяснив и не прибавив, он тотчас ушел. Это – в последний раз, что я его видела в полутьме зимнего утра с протянутым свертком в руке.
В небольшом свертке были какие-то бумаги, крепко увязанные. Томилова завернула в платок и уложила в мешок из шнурков, – с таким в баню ходят. Она заметила, что, если бы он лопался, это могло бы погубить несколько сот человек. Я взяла мешок с собой в переплетную и целый день держала его около себя, ни на минуту не теряя из виду.
Вечером, отправляясь домой, я вдруг сообразила, что глупо было не сбегать отнести его днем. Особенное опасение внушали мне пустынные мостки через Неву, ведшие к домику Петра Великого, близ которого была наша квартира; пьяные преградят дорогу, не го еще что-нибудь…
И, действительно, еще издали меня испугал на половине мостков быстро шедший навстречу мужчина. Поравнявшись со мною, он схватил меня за отворот шубки и потащил за собой.
В другое время, я бы крикнула, и это тотчас же помогло бы, так как на конце мостков стоял городовой. Но нельзя же кричать с такой ношей. Я принялась молча колотить изо всей силы своего врага. На половину пустой мешок с твердым свертком начал действовать, как кистень. Выругавшись, он меня выпустил, и я побежала дальше.
Я была довольна. Дело в том, что я легко пугалась, а, между тем, страстно желала быть храброй. До приезда в Петербург моя храбрость почти не подвергалась никаким испытаниям.