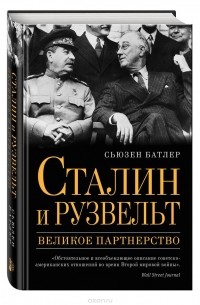Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 6. Укрепляя союз
Рузвельт планировал остаться в Тегеране до четверга, 2 декабря, но погода изменилась к худшему, в горах пошел снег. Он решил уехать поздно вечером в среду и уведомил всех об этом.
Он провел последнее утро, просматривая срочную официальную почту, которая должна была быть отправлена. Пленарное заседание со Сталиным и Черчиллем должно было начаться в конференц-зале в полдень, продолжиться на обеде в апартаментах президента и затем вновь в конференц-зале после обеда, а в случае необходимости и вечером, пока все проблемы не будут решены.
Рузвельт, конечно же, не знал, как тщательно Сталин следил за его частными разговорами, но был в курсе, что у Сталина была привычка заглядывать в его комнаты, чтобы убедиться, что о президенте хорошо заботятся. Уильям Ригдон, пресс-секретарь Рузвельта, и Зоя Васильевна Зарубина, советская разведчица, которая говорила по-английски и которой было поручено контролировать, чтобы у Рузвельта все было в порядке, были свидетелями того, как Сталин несколько раз без приглашения появлялся в комнатах Рузвельта. По словам Ригдона, иногда Сталин приходил вместе с Павловым, однажды он спросил, «не нуждаются ли они в чем-либо», и через Павлова пояснил смысл русских безделушек на столе у Рузвельта. «При этом он все время улыбался и выказывал своему гостю большое уважение… Сталин обычно настаивал, чтобы президент продолжал заниматься своим делом. “Не позволяйте мне мешать вам работать”, – говорил он через Павлова».
Зарубина вспоминала, что однажды утром она впервые увидела Сталина, когда он находился рядом с апартаментами Рузвельта и, очевидно, был намерен зайти к президенту. Она перевела вопрос Сталина: «Можно войти?» Рузвельт ответил: «Добро пожаловать».
«Разговор начался с простых вопросов Сталина Рузвельту: «Как вы себя чувствуете? Хорошо ли спали?» Президент ответил: «Да, я выспался. Мне здесь нравится. Лягушки, правда, квакали в пруду и некоторое время не давали мне заснуть». Я обернулась, посмотрела на Сталина и от волнения забыла, как будет на русском языке слово «лягушка». Тогда я сказала: «Иосиф Виссарионович, такие маленькие желтые животные, которые квакают в пруду, мешали президенту США заснуть». Я всегда начинаю свои воспоминания с этой сцены, поскольку это был для меня своего рода шок и провал». (Согласно советским документам, чтобы не нарушать сна Рузвельта, все лягушки были убиты).
Теперь, в последнее утро перед своим отъездом, Рузвельт, просмотрев почту, решил, как и Сталин, поступить неформально и зайти к нему частным образом. Рузвельт полагал, что если бы он смог вызвать Сталина на откровенность, проявить единство взглядов, тогда Сталин мог бы начать доверять ему. Рузвельт чувствовал: требуются дружеские отношения, чтобы заставить Сталина принять его планы, подразумевавшие признание необходимости силовых методов. Объединенные Нации, планируемые Рузвельтом, были предназначены для принуждения к миру, для обуздания стран-изгоев, стран-нарушителей, и они должны будут черпать власть из власти его полномочных членов. Это означало, что каждая страна должна была отказаться от некоторой части своей власти в пользу организации. Навязать Сталину идею о передаче власти было трудным делом. Для создания Объединенных Наций Рузвельт нуждался в полном сотрудничестве со Сталиным, что-либо меньшее означало поражение. И он собирался добиться этого сотрудничества своим собственным, особым образом.
В этот день Рузвельт был весьма коварен. Он имел склонность играть людьми – и он брал над ними верх, поскольку был слишком умен и превосходно разбирался в людях. Он играл, например, с генералом Дугласом Макартуром, которого он считал талантливым генералом, но весьма опасным лидером, которого необходимо держать под неустанным контролем. Как отмечал биограф Макартура, Уильям Манчестер, Рузвельт одновременно расхваливал генерала и ставил его в тупик. Рузвельт однажды сказал, что он считает генерала одним из двух самых опасных людей в стране. (Другим был губернатор Луизианы Хью Лонг, беспринципный демагог, который был убит в 1935 году. Этих двух людей объединяло то, что они оба были возможными претендентами на пост президента страны.)
Макартур совершил непростительный для военного шаг: он ослушался приказа. Вместо того чтобы разогнать ветеранов Первой мировой войны, которые, требуя денежных компенсаций, расположились со своими семьями возле Вашингтона летом 1932 года (как ему было приказано это сделать), он поджег их лагерь. Погибли невинные люди, в том числе дети. Находясь на посту президента, Рузвельт воздавал Макартуру почести как генералу, но в остальном обращался с ним как с лидером консервативных политических кругов.
Как-то спустя несколько лет на ужине в Белом доме Макартур спросил Рузвельта: «Господин президент, почему вы часто спрашиваете мое мнение по поводу социальных реформ, находящихся на этапе рассмотрения… но обращаете мало внимания на мои взгляды по военным вопросам?» Рузвельт ответил с честностью Макиавелли: «Дуглас, я не могу довериться вашим советам по этим вопросам, но могу довериться вашей реакции на них. Для меня вы являетесь символом совести американского народа».
Теперь, оказавшись лицом к лицу с Иосифом Сталиным, сдержанность и скрытность которого он хотел преодолеть, он решил прибегнуть к одной из своих игр. Как позже Рузвельт сообщил Фрэнсис Перкинс, он понял, что должны быть востребованы кардинальные меры, иначе «со всем тем, что мы делали, могли бы справиться и министры иностранных дел».
Его «операция», направленная на установление личных дружеских контактов со Сталиным, причем за счет Черчилля, была организована им как раз перед последней пленарной сессией. Черчилль был в плохом настроении. По воспоминаниям Рузвельта, когда они вошли в конференц-зал, «у меня была ровно секунда, чтобы сказать ему: «Уинстон, я надеюсь, вы не рассердитесь на меня за то, что я собираюсь сделать». Черчилль в ответ лишь перекатил свою сигару во рту и что-то пробурчал. Как только они расселись вокруг стола, Рузвельт (как он сам рассказывал позже Перкинс) «начал лично общаться со Сталиным. Я не говорил ему ничего такого, чего я не высказывал раньше, но делал это настолько по-дружески и конфиденциально, что и другие русские стали прислушиваться к нам. Сталин оставался по-прежнему сдержанным.
Тогда я сказал, прикрыв рукой рот (но так, чтобы переводчик смог перевести мой шепот): «Уинстон сегодня не в духе, он встал с утра не с той ноги».
Смутная улыбка появилась в глазах Сталина, и я понял, что был на верном пути… Я начал дразнить Черчилля его британской гордостью, его сигарами, его привычками, называть его Джоном Буллем. Сталин отметил это. Уинстон покраснел и нахмурился, и чем больше он так делал, тем больше улыбался Сталин. Наконец, Сталин разразился глубоким, от души, смехом, и впервые за эти три дня я увидел просвет в наших отношениях, и у меня появилась надежда. Я продолжал свою тактику, Сталин смеялся вместе со мной, и именно тогда я назвал его “Дядюшкой Джо”. Накануне, возможно, он общался со мной прохладно, но в тот день он засмеялся и подошел ко мне пожать мне руку.
С этого времени наши отношения перешли на личный уровень, и Сталин сам стал время от времени отпускать различные шутки и остроты. Лед был сломан, и мы начали общаться как обычные люди, как братья».
Поддразнивая Черчилля, Рузвельт, несомненно, хотел тем самым показать Сталину, что он теперь чувствовал себя так же комфортно и хорошо со Сталиным, как и с премьер-министром. Этим он привел Сталина и, конечно же, самого себя в хорошее расположение духа. В июне Литвинов сообщил, что Рузвельт «был полностью убежден в необходимости открытия “второго фронта” как можно скорее, и, безусловно, в Западной Европе», но что он «постепенно отошел от этого мнения под давлением своих военных советников и, особенно, Черчилля… Возможно предположить, без риска ошибиться, что там, где дело касалось военной политики, Черчилль вел Рузвельта на буксире».
Примерно в то же время Дэвис сообщил Рузвельту, что Сталин обвинил президента США в поддержке «традиционной британской внешней политики, направленной на то, чтобы отгородиться от России, закрыв Дарданеллы и выстроив систему компенсационного баланса сил против нее».
Если у Сталина все еще оставались сомнения относительно внешнеполитических целей Рузвельта или относительно того, вел ли Черчилль его на буксире, то Рузвельт хотел поставить на них крест.
Пленарное заседание началось. Гопкинс и Гарриман сидели по обе стороны от президента, Иден и британский посол Кларк Керр – по обе стороны от Черчилля, Молотов – рядом со Сталиным. Рузвельт открыл совещание вопросом о том, что можно было бы предпринять, чтобы побудить президента Турции Исмета Иненю вступить в войну. И Объединенный комитет начальников штабов, и Рузвельт считали, что вступление Турции в войну в целом нецелесообразно, поскольку могло обойтись слишком дорого – с учетом необходимости предоставления туркам боевой техники и вооружения, в частности десантных кораблей, уже предназначенных для операции «Оверлорд». Тем не менее Черчилль, понимая, что это создаст проблемы для организации операции «Оверлорд», утверждал, что мотивированная Турция, обеспеченная десантными кораблями, могла бы осуществить успешную операцию по захвату Родоса, который он считал стратегически важным островом. Он предложил направить десантные корабли из Тихоокеанской зоны. Однако Гопкинс, проявив твердость, заявил, что свободных десантных кораблей в распоряжении не было. Рузвельт также сказал, что переброска откуда-либо десантных кораблей «абсолютно невозможна». Сталин не придал этим разногласиям значения, поскольку вопрос был закрыт.
Обсуждение продолжилось в течение обеда, который был организован в апартаментах Рузвельта его слугами-филиппинцами.
Затем Рузвельт поднял тему Финляндии. Он был крайне недоволен вторжением Советского Союза в Финляндию в 1939 году, назвав в одном из писем эту войну «ужасным насилием». На заседании правительства, состоявшегося после вторжения советских войск в Финляндию, президент Рузвельт объявил, что в Советский Союз не будет поставляться вооружение или какое-либо военное снаряжение. С тех пор ситуация, безусловно, резко изменилась: финские войска входили теперь в состав германских войск, обеспечивавших блокаду Ленинграда. Рузвельт полагал, что он знал, о чем сейчас думал Сталин: в июне 1942 года Литвинов рассказал Гопкинсу, что Сталин решил воздерживаться от каких-либо действий в отношении Финляндии. Рузвельт надеялся, что Литвинов правильно сообщил о позиции Сталина, но он не особенно рассчитывал на то, что Сталин будет неукоснительно придерживаться ее: он был готов к любому развитию событий. Как он в сентябре мрачно написал архиепископу Нью-Йорка кардиналу Спеллману, он считал, что была высока вероятность того, что Сталин заявит притязания на Польшу, Прибалтику, Бессарабию и Финляндию, «поэтому было лучше уступить их изящно… Что мы можем поделать с этим? Через десять или двадцать лет… под европейским влиянием русские, возможно, перестанут быть такими грубыми варварами».
Сталин успокоил президента. Он вначале выступил с критикой в адрес Финляндии, отметив, что на советском фронте находилась двадцать одна финская дивизия и что уже двадцать семь месяцев Ленинград был в блокаде, организованной совместно финскими и германскими войсками. Наряду с этим он заявил, что у России не было «никаких планов» по вопросу о независимости Финляндии. Рузвельт был чрезвычайно доволен.
Затем разговор перешел к некоторым деталям советских территориальных претензий к Финляндии. Сталин заявил, что он хотел бы получить один из двух портов: Ханко на южном побережье Финляндии или Петсамо на северной оконечности ее побережья: «Если передача Ханко представляет собой проблему, то я готов согласиться на Петсамо». У Рузвельта, который вздохнул с облегчением, не было никаких возражений. «Это справедливый обмен», – признал он.
Заседание на время прервалось.
Рузвельт обратился к Сталину с просьбой в последний раз встретиться с ним без присутствия Черчилля.
Сталин появился у Рузвельта в 15:20 в сопровождении Молотова. С президентом был Гарриман.
Как всегда, Рузвельт обозначил повестку дня. Как только он со Сталиным расположились друг напротив друга, он упомянул две темы. Первая – это Польша.
Рузвельт был готов согласиться с контролем Советского Союза над Польшей при условии, что она будет миролюбивой страной и ее политические структуры сохранятся. Рузвельта забавлял очевидный недостаток энтузиазма в отношении польского правительства в изгнании в Лондоне, хотя Соединенные Штаты, как и Великобритания, признали его в качестве официального правительства Польши. Он считал, что оно не являлось представителем своей страны. Кроме того, оно было нереалистичным в своих ожиданиях и, что еще более важно, занимало явную антисоветскую позицию. Непосредственно перед тем, как отправиться в Тегеран, он высказал свои мысли молодому английскому другу Элеоноры Рузвельт: «Я устал от этих людей. Посол Польши некоторое время назад приходил ко мне, чтобы переговорить по этому вопросу». Продолжив, он изобразил просьбу посла оказать помощь в отношениях с советской стороной: «Я сказал [ему]: «Как вы думаете, они будут готовы прекратить это, чтобы порадовать вас или нас? Или вы ожидаете, что США и Великобритания объявят войну дядюшке Сталину, если они перейдут заветные границы вашей страны?»
У Гарримана также были серьезные сомнения в отношении польского правительства в изгнании. Он описывал его как группу аристократов, которые ожидали, что американцы и англичане восстановят их положение и их земельные владения (достаточно обширные) и поддержат феодальную систему, которая существовала в Польше в начале века.
Рузвельт, общаясь со Сталиным, не стал останавливаться на этих вопросах. Он дал понять, что он рассматривает будущее Польши через призму предстоявших в США президентских выборов: если война все еще продолжится в 1944 году, он будет баллотироваться на четвертый срок, и если он решится на этот шаг (а он пока еще не объявил об этом), то ему будут нужны голоса американцев польского происхождения (от шести до семи миллионов человек). Следует отметить, что Рузвельт сильно преувеличивал число польского населения в Америке: по данным переписи населения США 1940 года, в США было менее миллиона коренных поляков и менее двух миллионов граждан польского происхождения. Рузвельт подчеркнул, что он не будет принимать участие в какой-либо дискуссии о границах Польши с учетом его заинтересованности в голосах поляков, но он согласен со Сталиным, что восточная граница Польши должна быть отодвинута на запад, а западная – перенесена на реку Одер. Такой шаг (с акцентом в западном направлении) мог бы одновременно дать Советскому Союзу то, что он хотел в отношении польской территории (присоединение ее части к своей территории), и увеличить территорию Польши за счет Германии.
Сталин ответил, что теперь он понял идею президента.
Затем Рузвельт вынес на обсуждение вопрос о балтийских странах – Литве, Латвии и Эстонии, – которые располагались между Советским Союзом и Балтийским морем. Они являлись провинциями России, пока Германия не захватила их во время большевистской революции, затем они были освобождены в результате Первой мировой войны и в 1939 году вошли в Лигу Наций. В 1940 году Сталин послал туда Красную армию и утвердил там силой свой порядок – по его мнению, восстановил порядок. Рузвельт был в ярости по поводу этих шагов. Как он пожаловался Самнеру Уэллсу, это была «откровенная грубость со стороны Москвы… Он искренне недоумевал, целесообразно ли продолжать поддерживать дипломатические отношения с Советским правительством». Рузвельт был настолько раздражен, что чуть не разорвал отношения с Советским Союзом и был готов закрыть все советские консульства. В конечном итоге он принял более мягкое решение – заморозить советские активы. Вторжение Гитлера, конечно же, изменило все эти планы, и хорошие отношения между двумя странами сразу же были восстановлены.
Рузвельт продолжал считать, что страны Балтии должны быть свободными. В марте 1943 года он сказал Энтони Идену, что ему не нравится идея возвращения стран Балтии в состав России и что Советский Союз «серьезно упадет в общественном мнении, если будет настаивать на своем». Он считал, что «прежний плебисцит, очевидно, был сфальсифицирован». В октябре Рузвельт сказал Хэллу, что он намерен обратиться к высоким моральным качествам Сталина и указать ему, что с точки зрения позиции России в мире было бы правильно, чтобы Советский Союз согласился провести референдумы в Латвии, Литве и Эстонии через два года после окончания войны. Однако к ноябрю Рузвельт изменил свое мнение и смирился с существующим положением дел. «Все эти прибалтийские республики ничем не лучше русских», – сказал он другу Элеоноры лейтенанту Майлзу.
Теперь Рузвельт относился к этой теме очень деликатно. По воспоминаниям Болена, президент в шутливой форме говорил, что, хотя в США проживали литовцы, латыши и эстонцы (которые также принимали участие в голосовании), «когда советские войска вновь заняли Прибалтику, он не был намерен по этому поводу объявлять Советскому Союзу войну». Если же отрешиться от шутливой формы этого высказывания, то можно было понять, что Рузвельт испытывал внутренний дискомфорт, чувство неловкости в связи с отказом от своей прежней позиции. Ограничившись разъяснениями о необходимости соблюдать приличия, он говорил Сталину о роли общественного мнения в Соединенных Штатах, подчеркивая, что вопрос о референдуме и о праве этих трех стран на самоопределение будет иметь большую значимость и что «мировое общественное мнение выступает за то, чтобы эти народы выразили свою волю, возможно, не сразу же после их повторной оккупации советскими войсками, но в недалеком будущем».
Сталин уже понял, что Рузвельт не намерен настаивать на статусе стран Балтии, однако заинтересован в соблюдении приличий, поскольку прошлым летом Литвинов уже информировал его об этом. «У США нет ни малейшего экономического или внешнеполитического интереса к проблеме Прибалтийских стран или к спорным пограничным вопросам между нами и Польшей… Тем не менее Рузвельт в связи с предстоящими президентскими выборами должен учитывать голоса выходцев из стран Балтии и Польши, а также американских католиков, и по этой причине он не желает открыто поддержать наши требования», – сообщал тот.
Поэтому, отвечая сейчас на критику Рузвельта, Сталин знал о прочности своей позиции. Он заявил, что при последнем царе у этих трех стран не было автономии, что никто в то время не поднимал вопрос об общественном мнении и что он не видит основания поднимать его в настоящее время. Он добавил, что не согласится на международный контроль в каком бы то ни было виде. Наряду с этим он предложил провести определенную пропагандистскую работу.
Рузвельт поддержал эту идею. Он сказал, что «для него лично пошло бы на пользу, если с учетом предстоящих выборов могли бы быть сделаны некоторые публичные заявления, о которых упомянул маршал».
Сталин ответил: «Имеется много возможностей для подобного выражения воли народа».
Само собой разумеется, что, с точки зрения Рузвельта, у Сталина не было прав на управление странами Балтии. Однако у Рузвельта имелись аналогичные проблемы и с Черчиллем по поводу прав Великобритании управлять Индией. Рузвельт добился согласия Черчилля на то, чтобы 1 января 1942 года Индия подписала Декларацию Объединенных Наций как самостоятельная страна, подобно Канаде, чему премьер-министр вначале противился («Черчилль немедленно отреагировал отрицательно, пожал плечами и стал тянуть время», – заметил Рузвельт). Однако Черчилль не сделал ничего, чтобы обеспечить какие-либо шаги по ослаблению влияния Великобритании на Индию, хотя назревал бунт индийского населения, и в результате британской политики миллионы индийцев умирали от голода. Рузвельт понимал схожесть обеих ситуаций. Кроме того, были определенные границы, которые он не мог перейти. Он знал, что если он усилит давление на Сталина, то он может поставить под угрозу их отношения.
Рузвельт перевел разговор на Объединенные Нации, намереваясь увлечь Сталина своей идеей о действительно международной по своему характеру и форме организации. Рузвельт осознавал, что региональные блоки были недееспособны. В 1942 году, когда он затронул эту тему в ходе визита Молотова в Вашингтон, Сталин дал Молотову указание поддержать идею о региональных блоках: ему по-прежнему нравилась эта концепция. Черчилль также выступал за организацию, которая разделяла свои сферы влияния. Намереваясь убедить Сталина в правоте своего проекта, касавшегося создания международной организации, при этом не оказывая излишнего давления, Рузвельт теперь заявил, что, по его мнению, «было бы преждевременно рассматривать в настоящий момент здесь эти планы совместно с господином Черчиллем».
Он пояснил, что Объединенные Нации будут представлять собой три отдельные организации под одним «зонтиком». Первая – это крупное собрание всех государств-членов. Вторая – это исполнительный комитет, который будет заниматься невоенными (гражданскими) вопросами и в котором будут представлены Россия, США, Великобритания, Китай, еще два европейских государства, одна латиноамериканская страна, одна ближневосточная страна, одна страна Дальневосточного региона и одна страна из числа британских доминионов. Третья организация – это четыре «международных полицейских» – охранителя мира.
Он «особо» подчеркнул, что четыре великих державы (Соединенные Штаты, Великобритания, Советский Союз и Китай) будут в послевоенный период обеспечивать всеобщий мир, добавив, что «это только идея, конкретная реализация которой потребует дальнейшего изучения». Рузвельт указывал, что он хотел бы знать мнение Сталина, но наряду с этим он также отмечал, что он со Сталиным, Америка с Россией должны стать двумя самыми влиятельными «международными полицейскими» – охранителями мира.
Как-то раз Рузвельт попытался обсудить проблему годовой заработной платы рабочих с Генри Фордом. Рузвельт описывал, что когда он упомянул об этой проблеме и Форд понял, к чему он ведет, то хотел проигнорировать этот вопрос, но Рузвельт подошел к нему с другой стороны, а Форд вновь стал уклоняться. Рузвельт вспоминал, что провел весь обед, играя в шахматы с «дядей Генри» (как он назвал Форда), пытаясь проработать с ним этот вопрос. Однако, как выразился Рузвельт, «я не смог склонить его к этому». То же самое он пытался сейчас проделать и со Сталиным – но с лучшими результатами.
Его аргументация заключалась в том, что организация, устроенная подобным образом, будет иметь лучшие шансы для обеспечения всеобщего мира. Сталин, выслушивая его, очевидно прежде всего думал о последствиях.
Молотов, конечно же, также делал свое дело. В своих редких ремарках он отмечал, что на Московской конференции они согласились обсудить, как обеспечить доминирование («ведущую роль») четырех великих держав.
Сталин ответил, что «после того, как он обдумал вопрос о международной организации, как это было определено президентом, он согласен с президентом, что это должна быть всемирная структура, а не региональная».
На этом их встреча завершилась.
Согласно воспоминаниям Гарримана (который присутствовал при этом), Рузвельт был «весьма» воодушевлен этим утверждением Сталина. Как отметил Самнер Уэллс, для Рузвельта ничего не было более важно, чем признание идеи Объединенных Наций и роли в ней России: «Для Франклина Рузвельта твердое соглашение с Советским Союзом было незаменимой основой для мира в будущем». Уступив по вопросу Балтийских стран и их пребывания в составе Советского Союза, Рузвельт заплатил небольшую цену, чтобы обеспечить мир в послевоенное время, особенно при учете того фактора, что на самом деле было только два варианта: согласиться с этим элегантно или же неуклюже.
Сталин тоже был воодушевлен конкретными результатами их беседы. Он считал, что ему удается направить Советский Союз новым, неизведанным курсом, который не смог спланировать даже Ленин. Позже он скажет одному из югославских коммунистов: Ленин считал, что «все будут нападать на нас… в то время как оказалось, что одна группа буржуазии против нас, а другая с нами. Ленин не думал, что будет возможно объединиться с какой-то частью буржуазии. Но нам это удалось».
В шесть часов вечера Рузвельт, Сталин и Черчилль в последний раз сели в конференц-зале в шелковых креслах вокруг стола с зеленым сукном – под взглядами советских охранников, расположившихся на балконе выше. Рузвельт открыл это заключительное пленарное заседание, заявив, что предстоит обсудить еще два вопроса: вопрос о Польше и отношение к Германии.
Следующим выступал Молотов, который, однако, затронул тему, ранее не поднимавшуюся: ожидание Советского Союза, что он получит часть захваченного итальянского флота. В составе флота было много торговых судов и несколько меньше боевых кораблей. Молотов заявил, что Советскому Союзу нужны суда и корабли и что он готов незамедлительно использовать их «в общих интересах до момента завершения войны», после чего они могут быть распределены. По мнению Сталина, советская просьба была вполне умеренной. Черчилль высказал предположение, что если корабли вдруг будут переданы России, будет высока вероятность мятежа на итальянском флоте, что может привести к затоплению кораблей. После короткого обсуждения было решено, что Советский Союз получит корабли «где-то в конце января».
Затем Рузвельт перевел разговор на Польшу. Советский Союз разорвал отношения с польским правительством в изгнании в Лондоне в апреле 1943 года, когда оно предприняло попытку расследовать обвинения немцев в том, что Советский Союз уничтожил в 1940 году тысячи польских офицеров, являвшихся военнопленными. Эта ситуация была чревата серьезными проблемами, поскольку обвинения имели веские основания: в рамках многовекового конфликта между двумя странами Сталин (как будет выяснено позже) дал согласие на казнь офицеров, которые, как считалось, симпатизировали немцам, и они были похоронены в братской могиле в Катынском лесу под Смоленском. Рузвельт отказался рассматривать возможность казни офицеров советской стороной или быть вовлеченным в любого рода расследование этого вопроса. Сталин был его союзником, и расследование не привело бы ни к чему, кроме напряженности в их отношениях, а в сложившейся ситуации виновность или невиновность той или иной стороны не имела никакого значения. Он просто высказал свое пожелание, чтобы Советский Союз восстановил отношения с польским правительством в изгнании, а все спорные вопросы «будут так или иначе решены». Тем не менее Сталин продолжал делать различие между польским правительством в изгнании, которое было «тесно связано с немцами», и Временным польским правительством, которое пользовалось поддержкой Советского Союза.
Положение было безвыходным. Черчилль перевел разговор на менее конфликтный вопрос – о границах Польши.
Сталин вновь заявил, что Россия выступает за восстановление и расширение Польши «за счет Германии», с чем и Черчилль, и Рузвельт были готовы согласиться. Была неофициально согласована «линия Керзона», точное местоположение которой было установлено на карте, предоставленной Боленом. Сталин разметил карту красным карандашом, чтобы показать области к востоку от советско-польской границы 1941 года и к западу от «линии Керзона», восстановления которой в Польше он ожидал. Он высказался также за передачу Советскому Союзу прусских портов Кенигсберг и Тильзит.
Затем Рузвельт вновь завел речь о Германии. Он хотел бы согласовать вопрос о том, была ли необходимость разделять ее.
Сталин без колебаний ответил, что Россия выступает за разделение Германии.
Черчилль, который надеялся на возрождение Германии в качестве сильной державы, способной противостоять Советскому Союзу на континенте, сказал, что он больше заинтересован в отделении Пруссии, «дьявольской сердцевины германского милитаризма», выступая наряду с этим за то, чтобы южные земли Германии могли стать частью Дунайской конфедерации.
Рузвельт представил свой план, который предусматривал разделение Германии на пять автономных частей: (1) Пруссия, которая становилась, насколько это только было возможно, небольшой и слабой; (2) Ганновер и северо-запад Германии; (3) Саксония и Лейпциг; (4) Гессен-Дармштадт; (5) Бавария, Баден и Вюртемберг. Кильский канал, Гамбург, Рур и Саар должны были перейти под контроль Объединенных Наций. Сталину план Рузвельта понравился больше, чем Черчиллю, поскольку предполагал более жесткий подход к Германии. Наряду с этим Сталин считал, что данный подход был все же недостаточно жестким. Сталин отметил, что задачей «любой международной организации» будет являться нейтрализация тенденции к воссоединению Германии и что страны-победительницы «должны быть достаточно сильными, чтобы побить немцев, если те когда-либо развяжут новую войну». Это заявление вызвало у Черчилля вопрос (что отразило его глубокое недоверие к Сталину), «не стремится ли маршал Сталин к тому, чтобы Европа состояла из маленьких, оторванных друг от друга, разделенных и слабых государств». Сталин ответил, что речь шла не о Европе, а только о Германии.
Черчилль не поверил ему. Он был твердо убежден, что Сталин намеревался ослабить и, возможно, даже оккупировать Западную Европу. Не пройдет и месяца, как он напишет Энтони Идену: «Хотя я всячески пытался пробудить в себе симпатию к этим коммунистическим лидерам, я не могу испытывать к ним ни малейшего доверия».
Рузвельт же, напротив, не сомневался, что истинная цель Сталина в этом случае заключалась в том, чтобы, как тот и сказал, ослабить Германию, но наряду с этим сохранить прежнее положение остальных стран Западной Европы. И президент действительно был прав: у Сталина не было никаких военных намерений в отношении Западной Европы. В отличие от германских и японских руководителей, допускавших расовые высказывания, Сталин не считал, что славяне были расой господ, которой было суждено править миром. Он полагал, что коммунизм был экономической моделью будущего и что в конечном итоге коммунизм будет принят на Западе, поскольку являлся более эффективной формой управления. Однако в настоящее время первоочередной задачей было выиграть войну и обезопасить границы Советского Союза, а это означало, что требовалось обеспечить контроль над Германией.
Сталин был до такой степени обеспокоен вопросом будущего Германии, что после возвращения в Москву он тщательно отредактировал русскую часть состоявшихся в Тегеране бесед, чтобы отразить то, что он сказал в их ходе, и собственноручно внести необходимые правки. Окончательный вариант советского документа гласил: «Товарищ Сталин заявил, что в целях ослабления Германии Советское правительство предпочитает разделить ее. Товарищ Сталин положительно отнесся к плану Рузвельта, кроме предварительного определения количества государств, на которые Германия должна быть разделена. Он выступил против плана Черчилля по созданию после разделения Германии нового, нестабильного государства наподобие Дунайской Федерации».
После того как обсуждение уже завершилось, Рузвельт высказал мысль, которую едва ли можно было считать нейтральной (учитывая только что поднимавшийся вопрос о разделении Германии). Он заявил, что, когда Германия состояла из 107 провинций, она представляла меньшую опасность для цивилизации. Черчилль в ответ ограничился репликой о том, что он «рассчитывает на более крупные административные единицы».
Заседание завершилось заявлением Черчилля о том, что вопрос о польских границах следует окончательно согласовать и урегулировать. Сталин вновь указал, что если России будет передана северная часть Восточной Пруссии, расположенная вдоль левого берега реки Неман и включающая Тильзит и Кенигсберг, то он будет готов признать «линию Керзона» в качестве советско-польской границы.
Они разошлись, чтобы вновь встретиться на ужине. Рузвельт просил позволить ему организовать этот ужин, потому что он знал, что может рассчитывать на свой филиппинский персонал, который эффективно справится с этой задачей. Сталин и Черчилль согласились с этим.
В ходе этого завершающего ужина им был представлен окончательный проект Иранской декларации, провозглашающей их цели. Была представлена также декларация по Ирану, на которой настоял Рузвельт и которая была составлена Херли. В последнем документе признавался вклад Тегерана в дело союзников и его будущее право на независимость. Три руководителя изучили эти документы.
Несколько недель назад в ходе Московской конференции Сталин выступил против публикации какого-либо заявления о политике в отношении Ирана. Теперь, после поступления такого предложения со стороны самих иранцев, а также с учетом личного обращения президента США Сталин изменил свое мнение и согласился с таким документом.
Состоявшиеся переговоры и споры заметно вымотали Сталина. Когда этот последний ужин подошел к концу, Болен отметил, что тот выглядел уставшим. Когда Сталин читал русский текст одного из документов, Болен быстро подошел к нему сзади, чтобы передать информацию от Рузвельта. Сталин повернулся и в раздражении воскликнул: «Ради бога, дайте нам завершить эту работу!» Увидев, что это был Болен, «он смутился в первый и единственный раз».
Подписание декларации по Ирану дает интересную возможность получить определенное представление о том, насколько Сталин полагался на Рузвельта. Официальный текст для того, чтобы его подписали три руководителя, был подготовлен только на английском языке. Гарриман представил его Сталину и уточнил, хотел ли он, чтобы текст был переведен. Сталин отметил, что в этом не было необходимости, и попросил Павлова устно перевести его. Выслушав перевод Павлова, он, по воспоминаниям Гарримана, «в моем присутствии и в присутствии господина Болена сказал, что одобряет Декларацию» и что из-за нехватки времени он согласен подписать текст на английском языке. Однако он настоял на том, чтобы Черчилль подписал его первым. При этом он не стал подписывать его и вторым. «Он заявил, что сделает это после президента. Я передал Декларацию президенту, который подписал ее. И уже после этого ее незамедлительно подписал и Сталин».
Тот документ, который подписали Черчилль и Сталин, должен был дать иранцам большую надежду на будущее, поскольку он призывал «обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирана», что в течение многих лет игнорировалось как Великобританией, так и Советским Союзом. Когда эти две страны в августе 1941 года вторглись в Иран, всего через два месяца после начала операции «Барбаросса», германского вторжения в Россию, шах телеграфировал Рузвельту с просьбой о помощи. Рузвельт подождал, пока вторжение не стало свершившимся фактом, а затем успокоил шаха заявлениями о том, что это было временной военной мерой, направленной на то, чтобы предотвратить захват страны Гитлером. Затем он вынудил Великобританию и Россию сделать заявление о том, что они покинут страну после разгрома Гитлера. Иран получил право на поставки по программе ленд-лиза, которые были весьма щедрыми. Теперь страна пользовалась и административной, и экономической помощью США. Президент привез домой из Тегерана от благодарного шаха ковер, который положил в своем кабинетете.
Ужин завершился ровно в 22:30, к тому времени уже похолодало. Рузвельта выкатили в его кресле на крыльцо и перенесли в машину. Президент покинул Тегеран так же, как он въехал в него: в ничем не примечательном лимузине вслед за ничем не примечательным джипом, направляясь в Кэмп-Амирабад, лагерь в пустыне на окраине Тегерана, где располагались американские войска из состава командования тылового обеспечения в зоне Персидского залива. Он вместе с Гопкинсом провел там ночь в качестве гостя генерала Дональда Коннолли, старого друга Гопкинса.
В последний день Рузвельт написал в своем дневнике: «Конференция прошла успешно, хотя я и обнаружил, что разрабатываю военные планы совместно с русскими. Сегодня утром британцы, к моему великому облегчению, также присоединились к нам».
На следующее утро Рузвельт совершил поездку по лагерю в пустыне и выступил с зажигательными речами перед задубевшими на солнце солдатами и персоналом гарнизонного госпиталя:
– В течение последних четырех дней у меня была конференция с маршалом Сталиным и господином Черчиллем, весьма успешная, по разработке военных планов сотрудничества между нашими тремя странами, которые стремятся добиться победы как можно скорее… Другой целью переговоров было также обсуждение условий построения мира после войны. Мы попытались спланировать мироустройство для себя и для наших детей, когда война перестанет являться необходимостью. И мы добились в этом значительного успеха.
Примерно в то же время, когда Рузвельт утром обращался к солдатам, в советской миссии Валентин Бережков был свидетелем, как он думал, весьма мелодраматического отъезда Рузвельта. Он писал, что, одетый в черный плащ, шляпу, в пенсне и с сигаретой в длинном мундштуке, «он» (возможно, тот же агент личной охраны президента, что и прежде) сел в ожидавший его джип. Как только машина тронулась, четыре оперативника, согласно рассказу Бережкова, вскочили на подножки, затем двое достали из курток автоматы и положили их на передние крылья автомобиля. Бережков прокомментировал это весьма неодобрительно: «Мне показалось, что умышленная демонстрация своих действий оперативниками могла только привлечь внимание каких-либо злоумышленников».
Если бы Рейли знал, что он обманул такого умудренного человека, как Бережков, он был бы доволен.
Сталин со своим окружением поехал в аэропорт Гейле-Морге позже утром, где два двухмоторных пассажирских самолета ожидали, чтобы отвезти их в Баку. Сталин сел во вторую машину. По прибытии в Баку он сменил изящную маршальскую форму на обычную солдатскую шинель и фуражку без каких-либо нашивок или знаков отличия. Вскоре в аэропорт прибыла вереница лимузинов. Сталин сел во вторую машину рядом с водителем, его личный телохранитель устроился на заднем сиденье, и кортеж помчался на вокзал. Там специальный поезд Сталина, с длинными вагонами-люкс, уже ожидал его, чтобы отвезти обратно в Москву.