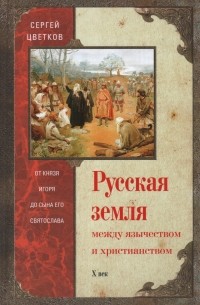Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 5. Конец державы «Светлых князей»
Византийско-хазарский конфликт
В 939 г. Русская земля оказалась вовлечена в византийско-хазарский конфликт в Северном Причерноморье.
В начале 30-х гг. X в. отношения между Византией и Хазарией приняли неприкрыто враждебный характер. Общей для обеих стран арабской угрозы больше не существовало, а вместе с ее исчезновением истаяла и та почва, на которой только и было возможно их временное сближение. Собственные интересы Византии и Хазарии в Северном Причерноморье были прямо противоположны. Безопасность крымских владений всегда рассматривалась имперскими властями как насущная, а порой и первоочередная внешнеполитическая задача. Таврические области были необходимы Византии одновременно и для контроля над акваторией Черного моря, и для оказания военно-политического давления на варварские народы Северного Причерноморья; кроме того, по свидетельству Константина Багрянородного, на Таманском полуострове и в Адыгее находились «многочисленные источники, дающие нефть» – важнейшую составную часть «греческого огня». Официальное принятие Хазарией иудаизма вносило в политические распри заметный оттенок религиозного противоборства.
В борьбе с каганатом Византия прибегла к своей излюбленной тактике войны чужими руками, натравив на Хазарию соседние племена и народы. В 932 г. по просьбе императора Романа I Лакапина в набег на северокавказские земли каганата отправились аланы. Однако они потерпели поражение, и по настоянию хазар аланский князь должен был удалить из Алании византийских миссионеров. Спустя несколько лет «злодей Романус», как называет византийского правителя еврейский автор Кембриджского документа, возбудил жестокое преследование иудеев в самой империи. Византийские евреи толпами хлынули в сопредельные страны. «Это произошло потому, – объясняет Масуди, – что правящий ныне византийский император Арманус [Роман I] принуждал всех евреев своего царства к принятию христианства. Многие евреи удалились вследствие этого из Византийского царства в Хазарскую землю». В Хазарии поступок Романа оценили как недружественный акт. В ответ на преследование единоверцев хазарский царь (бек) Иосиф обрушил гонения на христиан, уничтожив, по свидетельству Кембриджского анонима, «многих необрезанных». Тогда, говорит тот же источник, «злодей Романус послал большие дары Х-л-го, царю Руси, подстрекнув его совершить злое дело» – напасть на хазар.
Обращение Романа I к Олегу II говорит о том, что именно его Византия рассматривала как легитимного правителя Руси. Это и естественно, поскольку он был прямым наследником вещего Олега, с которым империя в 911 г. заключила договор о «непревратной любви». Непосредственных политических обязательств стороны тогда на себя не взяли. Но знаменитый щит, повешенный Олегом на царьградских вратах, остался символом того, что вещий князь с этих пор объявил себя военным союзником Византии. Империя вспомнила об этом уже в 924 г., когда болгарский царь Симеон с огромным войском осадил Константинополь. Чтобы спасти столицу, Роман I, по свидетельству константино-польского патриарха Николая Мистика, призвал на помощь всех задунайских варваров – русов, венгров, печенегов, аланов. «Мощное нашествие, насколько я могу судить, готовится или уже готово императорскими стараниями против вашей державы и твоего народа, – писал Николай Симеону, – поскольку росы, а с ними печенеги, еще аланы и западные турки [венгры] – все единодушно настроены идти войной на тебя… Знай же, говорю снова, – если я что-нибудь понимаю относительно императорского предприятия, поднятого против вас, – что вся эта масса народа, собравшегося для вашей погибели, и турки, и аланы, и печенеги, и росы, а также другие скифские племена, не остановятся, пока не уничтожат вконец весь народ болгаров».
Антиболгарская коалиция, впрочем, так и не состоялась, но угроза подействовала, и Симеон пошел на мировую.
И все же это обращение византийского правительства к русам было скорее жестом отчаяния, нежели обдуманным политическим шагом. По большому счету византийская дипломатия не принимала Олегову Русь в расчет при создании благоприятных для империи политических комбинаций в Северном Причерноморье. И вот появление в 930-х гг. киевских дружин в устье Днепра и в горном Крыму наконец-то заставило константинопольских политиков учесть эту новую силу, дабы использовать ее в своих интересах. Богатые подарки, отправленные Романом Олегу II, должны были подтвердить, что «любовь» византийских императоров к «светлым князьям русским» за эти годы нисколько не охладела.